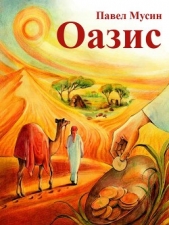Иду над океаном

Иду над океаном читать книгу онлайн
Роман посвящен проблемам современности. Многочисленные герои П. Халова — военные летчики, врачи, партийные работники, художники — объединены одним стремлением: раскрыть, наиболее полно проявить все свои творческие возможности, все свои силы, чтобы отдать их служению Родине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И Курашев успокоился. Никогда он не испытывал к своему оператору особенной дружбы, а сейчас благодарное и виноватое за прежнее невнимание волнение стиснуло горло, и смертельно захотелось обернуться к Рыбочкину, чтобы они могли увидеть друг друга. Он не мог этого сделать и только сказал:
— Далеко, видимо, идем, парень.
— Я понял, командир.
— Значит, хорошо, — отозвался Курашев и замолчал.
Да, это была их очередь. «Вообще-то, — мысленно усмехаясь, подумал он, — было бы не хуже, если бы эта очередь оказалась подлинней». И еще он понял, что никого не хочет видеть сейчас на своем месте — Курашев не в первый раз шел на реальную цель. Ему приходилось это делать не однажды — и с маршрута при полетах, «в сложных», и с аэродрома — с дежурства. Часто он так близко подходил к иностранцу, что видел силуэты летчиков в фонаре кабины. И несколько раз он сталкивался с одним и тем же бортом. Самолет не пересекал границы, а шел вдоль нее; грузно проседая над морем, ползла серая машина. Курашев закладывал вираж и выходил в позицию, наиболее удобную для атаки, и лишь при этом те сваливали на крыло свой «А-3-Д» и уходили, едва не задевая брюхом за верхушки океанских волн, а от реактивных струй их двигателей на воде оставались пенные, словно распыленные следы.
Теперь уже все побережье — и офицеры наведения, и офицеры радиолокационных подразделений, и солдаты-операторы, и радисты знали о том, что в темном небе над их головами идет на перехват наш истребитель, а наиболее догадливые — по скорости его, по эшелону, по направлению движения уже давно определили для себя и марку истребителя. И, зная к тому же давно уже не секретные параметры этого истребителя — высоту, скорость, дальность — могли предположить, что пилоты в нем идут на очень важное, может быть, на самое важное в их жизни задание. А зная это, представляешь, сколько силы духа, сколько мужества и решимости нужно, чтобы пойти на это не колеблясь, чтобы незримая трасса, оставляемая в ночном небе твоей машиной, была прямой как стрела, на острие которой за тонкими стенками из плексигласа — твоя жизнь — капелька, горящая на кончике иглы. И, пожалуй, не один офицер, вглядываясь в экран локатора где-нибудь в бетонированном ПН, затерянном среди обожженных северными ветрами лесов, зябко поеживал плечами, представив себя на месте пилотов. И отсюда, с земли, тот, кто еще вечером, вглядываясь в серое ревущее перед самыми глазами северное море, подумал было, что нет доли в армии тяжелее, чем его доля, теперь со смешанным чувством зависти и неловкости за свою собственную безопасность следил за этой периодически вспыхивающей на экране точкой.
Этого не думали и не могли думать люди на базовом аэродроме, но и у них на душе было что-то похожее. Все, как один, пилоты примеряли к себе этот полет: «А я бы? А я бы смог?»
Поплавскому пришло на ум сравнение: сегодняшний перехват напоминает то, что делали на войне, — таран. С той разницей, что на таран никто не мог отдать приказа и не отдавал, а Курашеву отдал приказ он — и еще, что при таране мог быть иной выход — с тем, кого ты упустил в небе, можно было встретиться и завтра, и, может быть, даже еще и сегодня, слетав домой, заправясь, вооружась и снова поднявшись вверх — «на работу», а у Курашева нет такой возможности. Вернее, эта возможность может возникнуть, — Поплавский поглядел на часы, — еще в течение двух-трех минут.
Уйдет чужой от границы сию секунду — Курашев сможет вернуться. Поэтому полковник не отходил от аппаратов ни на шаг — где-то в самой глубине его сердца жила надежда на такой оборот, и он в этом случае не хотел терять ни мгновения — он вернул бы Курашева тотчас.
Три минуты мерно, секунда за секундой, истекли, Поплавский осторожно положил микрофон и встретился взглядом с Волковым. И Волков удивился сосредоточенности и какой-то неприпрятанной отчужденности во взгляде полковника.
— Я очень хорошо понимаю тебя, — сказал ему генерал, едва разжимая зубы. — Поднимай транспортную. Подойдут как раз вовремя.
Генерал впервые назвал Поплавского на «ты», хотя не любил этого и обращался так лишь к тем, кому давал место в своем сердце.
Он хотел чем-нибудь помочь полковнику, кроме своего официального присутствия, чем разделял его ответственность, помочь по-человечески, по-мужски, так, чтобы полковник понял, что и он, Волков, сейчас взволнован и состояние его близко к состоянию полковника.
Он сказал:
— Здесь — новый капитан. Ну, тот, что прилетел со мной. Пусть он летит с Машковым сейчас. Пусть посмотрит.
Внутренне Барышев готовил себя к службе на новом месте. Воображение рисовало ему покрытые снегом безмолвные просторы, резкую черту прибоя, разделившую две стихии — землю и море. И море он представлял себе зеленым с белыми недвижными лоскутами льдин. Ему даже виделась гора — одинокая над всем пространством, искрящаяся. И когда он ступил на эту землю, когда предстала перед ним темная, заскорузлая зелень по краям аэродрома и сам аэродром, как сотни других, только, может быть, более просторный, он вдруг понял, что представлял себе все это так, словно смотрел на макет. Сразу же, буквально вслед за его Ан-8 — еще не успел разойтись горячий, разрушенный его турбовинтовыми двигателями воздух, сел на полосу и укатился к самому горизонту тяжелый бомбардировщик — не здешний, весь какой-то тревожный. И никто не удивился. Только полковник со звездой Героя на тужурке проводил его холодным цепким взглядом и тотчас отвел глаза. Бомбардировщик так и остался там, у горизонта. И Барышев, садясь в машину, в последний раз увидел его неподвижный киль над линией далекого горного хребта.
Чем дольше капитан находился здесь, тем все неотвязнее ощущал какую-то неповторимую особенность аэродрома. Может быть, в этом был виноват воздух — острый, с холодком, дышишь и замечаешь, что дышишь; может, цвет: во всем — в зелени, в снегах, покрывавших сопки, в стволах деревьев, в глазах людей — синеватый оттенок. Даже загар человеческих лиц отдавал чем-то неуловимо голубым. А может быть, в сдержанности и серьезности всей обстановки. Барышев перелетел через всю Россию. Потом в своем полузабытом городе подумал: теперь уже рукой подать. А оказалось, что лететь ему еще и лететь почти столько же, сколько он пролетел. Он видел много аэродромов и помнил свой полк в пустыне. И всех их роднило, делало похожими одно общее: приподнятое оживление, населенность. Самолеты взлетали, садились. Где-то в синеве над аэродромом, едва посверкивая игольчатым телом, крутилась машина, оставляя за собой прерывистый инверсионный след, кого-то вводили в строй: новичок пришел. Он сядет, его приведет в столовую комэск, и там начнется — тотчас обнаружится его старший товарищ по училищу, земляк, дальний знакомый, повеет от молоденького лейтенанта давним-давним, и закрутится вокруг него карусель: в полете будут за ним следить, при посадке переживать, на взлете придирчиво глядеть вслед его машине, а на земле опекать — до тех пор, пока он не освоится, пока у него не образуется круг друзей, пока он сам не усвоит особенности характера командира полка, замполита и помпохоза. Он будет принадлежать всем…
Этот аэродром отличался тишиной и кажущейся пустотой. Ни звука, ни машины не было в строгом небе над ним. И дежурные пары истребителей пеленгом замерли на правом его крыле, и строго маячил оттуда бетонный «тревожный» домик.
Может быть, пространство скрадывало здесь звуки, но даже тот бомбардировщик сел так внезапно, так беззвучно, что Барышев его увидел уже над полосой.
Однажды — это было давно-давно — все пережитое Барышевым за эту неделю отодвинуло прошлое куда-то за ту черту, за которой все сделалось «давно», — комэск сказал ему:
— Знаешь, Барышев, придет пора, и ты повзрослеешь. Ты повзрослеешь настолько, что поймешь, как понял я: до тех пор слова, которыми мы обозначаем свой долг и отношение к земле, давшей нам эти крылья, будут для тебя пустым звуком, пока ты однажды не полюбишь кого-нибудь, пока не потянешься к кому-нибудь. И тогда ты станешь хорошо летать, не затем, чтобы «не как все», а затем, чтобы лучше, чтобы «вместе со всеми…»