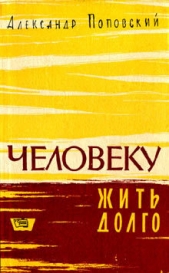Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов

Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов читать книгу онлайн
Александр Поповский — один из старейших наших писателей.
Читатель знает его и как романиста, и как автора научно–художественного жанра.
Настоящий сборник знакомит нас лишь с одной из сторон творчества литератора — с его повестями о науке.
Тема каждой из этих трех повестей актуальна, вряд ли кого она может оставить равнодушным.
В «Повести о несодеянном преступлении» рассказывается о новейших открытиях терапии.
«Повесть о жизни и смерти» посвящена борьбе ученых за продление человеческой жизни.
В «Профессоре Студенцове» автор затрагивает проблемы лечения рака.
Три повести о медицине… Писателя волнуют прежде всего люди — их характеры и судьбы. Александр Поповский не умеет оставаться беспристрастным наблюдателем, и все эти повести построены на острых конфликтах.
В сборнике ведется серьезный разговор о жизни, о нашей позиции в ней, о нашем мироощущении.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В этом признании не было ничего нового. Учителя Якова Гавриловича твердили ему, а он в свою очередь повторял другим, что никакое искусство не приходит в упадок так быстро, как хирургия. Основанная на опыте, она поддерживается трудом и непрерывным упражнением. Отказываясь от хирургической практики, Студенцов знал, что его ждет, но утешался мыслью, что искусство сидит в нем глубже, чем у других, и в нужный момент он восстановит утраченное. В своем расчете Студенцов кое–что упустил, сейчас это упущенное напомнило ему о себе и глубоко его поразило.
«О моих смелых операциях и умении творить чудеса, — подумал он, — давно уже не говорят. Что, если в институте, в хирургическом обществе и среди населения решили, что моему былому мастерству пришел конец? Как о многих других, сошедших со сцены хирургах, обо мне давно говорят: «Яков Гаврилович был когда–то орлом, но он давно не оперирует, а теперь уже поздно. Был конь, да изъездился». Или еще так: «Он когда–то умел, теперь не то…» Пройдет немного времени, и мне без деликатностей скажут: «Мы помним ваши операции, как их забыть, но ведь вы теперь — администратор». Возможно, что такое мнение сложилось давно и только он, Студенцов, о нем не догадывался. И тот заведующий отделением, которому он недавно сделал замечание, и другой, и третий, которые при встрече улыбаются ему, про себя думают: «Был конь, да изъездился». И Андрей Ильич, вероятно, такого же мнения…
Эта мысль показалась Якову Гавриловичу невыносимой, кровь прилила к лицу, и в глазах потемнело. Он мысленно представил себе Сорокина, его искренние и правдивые глаза, добрую беспомощную улыбку, и хотел уже отказаться от своего подозрения, когда вдруг подумал, что из жалости к нему, Студенцову, Андрей Ильич делает вид, что ничего не замечает. В душе жалеет или смеется, а внешне прикидывается простачком. «Уж кому другому, — запальчиво подумал Яков Гаврилович, — но не ему жалеть и смеяться. Хирург, способный привить раковые клетки больной, подвергнуть ее смертельной опасности, не смеет бросаться упреками. А с каким упорством он отказывался доверить операцию другому…»
Вспышка раздражения быстро угасла и сменилась острым чувством стыда. Ему было стыдно перед самим собой, перед Андреем Ильичом, как если бы он это уже высказал ему, не пощадив его самолюбия. Какая мерзость! Обрадоваться чужой неудаче, несчастью, которому равного нет. Ему ли, Студенцову, давно переставшему быть врачом, пользующемуся своей отшумевшей славой, говорить о хирургическом искусстве!
Яков Гаврилович любил свою работу и теперь, когда увидел, как далеко он от нее отошел, почувствовал острую тоску по ней. Он стал каждый день приходить в операционную и наблюдать за тем, как работают врачи. На нем был стерильный халат на случай, если бы ему захотелось заменить хирурга или ассистировать ему. Этот неожиданный интерес к работе врачей одни объясняли как причуду таланта, другие — как усиление административного контроля, третьи еще по–иному. Поговаривали, что директор намерен представить к награде некоторых хирургов и выясняет, кого именно отличить. Директор не пытался опровергать эти слухи и даже делал вид, что придает им известное значение. Он охотно ассистировал Сорокину, заверяя его, что эта работа приятна ему.
Настойчиво и упорно восстанавливал Студенцов сзое мастерство. Он вспомнил правило, что рука хирурга не должна знать покоя, пока она послушна ему, и не щадил себя. Самым трудным было научиться обезболивать ткани при операции. Сейчас, когда метод анестезии утвердился в институте, он не мог больше отговариваться тем, что у наркоза свои преимущества. Не мог, во–первых, потому, что все время делал вид, что перемена происходила с его ведома и согласия. Не мог и по другой причине: изучив метод анестезии, беспристрастно проверив ее за операционным столом, он убедился в ее преимуществах перед наркозом. Те, кто видели сейчас операции Студенцова, должны были признать, что его искусство обезболивать не уступает его хирургическому мастерству.
Чтобы стать хозяином положения, «выбраться из обоза», как мысленно называл свое положение Студенцов, надо было серьезно изучить онкологию. Не ту историко–теоретическую ее часть, полную противоречий и взаимно исключающих гипотез, а диагностическо–лечебную. Так усвоить все признаки заболевания, чтобы по жалобам больного, малейшим оттенкам его самочувствия, по внешнему обследованию предугадать картину рентгенограммы. Десятилетиями накапливались эти наблюдения, одни стали достоянием многих, другие оставались известны лишь отдельным врачам. Яков Гаврилович этим искусством не интересовался. Уверенный, что раннее распознавание болезни — дело терапевта, он ограничивался свидетельством гистолога, который приносил ему бесспорное свидетельство перерождения тканей, ставших раковыми, или рентгенолога, указывавшего точное местоположение опухоли. Нозый метод работы, введенный Андреем Ильичом, требовал от хирурга знания диагностики, и Студеицову пришлось этому поучиться.
Чтобы скрыть свое неумение делать то, чего он до сих пор чуждался, и научиться упущенному, Яков Гаврилович ввел систему консилиумов. Время от времени на собрании клиницистов института заслушивался доклад лечащего врача о состоянии его больного, и после обсуждения утверждался диагноз. Еще раз консилиум выслушивал врача, когда он предлагал оперировать больного. Снова скрещивались мнения и истолковывалось по–разному течение болезни. У каждого клинициста был свой опыт, свое понимание заболевания, и обсуждение затягивалось надолго. Яков Гаврилович внимательно выслушивал каждого, никого не перебивал и не позволял себе шуток. Решающее слово принадлежало ему. Он говорил обычно последним, и всегда его заключение было интересно и умно. Все восхищались его проницательностью и тонкостью анализа, и никому в голову не приходило, что искусству разбираться в состоянии болезни Яков Гаврилович научился у них. Первое время он старательно выслушивал всех и не совсем уверенно выбирал одну из точек зрения. Подучившись, он стал больше себе позволять — опровергать других и утверждать собственное мнение. Одного только Студенцов себе не позволял: поучать, красоваться и ради меткого словца отказываться от правильного решения.
19
Пока Елена Петровна болела, в институте произошли большие перемены. Некоторые вести о них доходили до нее и во время болезни, кое–что рассказывал ей Андрей Ильич, но больше всего поразил ее сам Студенцов. Увидев его мельком в палате, она вначале подумала, что он все такой же, без перемен. «Без перемен» означало, что Яков Гаврилович по–прежнему руководит институтом, присутствует и выступает на конференциях, болезненно воспринимает чужие успехи, не выносит противоречий, блистает остроумием, а в общем — не плохой человек. На докладе Ванина Яков Гаврилович растрогал ее проявлением дружбы к приезжему врачу. Она долго потом вспоминала «умного медведя», взгромоздившегося на трибуну, и даже сохранила некоторые из рисунков, сделанных во время доклада. На одном из них он был изображен косолапым, в модном костюме, с усами и бородкой, снисходительно взирающим на аудиторию. Доклад не понравился Елене Петровне, он показался ей «сплошной философией» — чем–то абстрактным, несовместимым с практическими нуждами врача.
Первый визит ее к Студенцову принес с собой много неожиданного.
Яков Гаврилович тепло принял ее, поднялся навстречу и, не выпуская ее маленькой ручки из своей ладони, усадил рядом с собой.
— Рассказывайте, что нового, — своим приятным голосом произнес он, — давно с вами не виделись.
После короткой беседы на общие темы он заговорил женщине–враче, которую в клинике не любили.
— Не пойму я Анну Ивановну, что она за человек. С больными суха, официальна, не улыбнется, добрых и любезных врачей называет «миловидниками». А между тем внимательна к диагнозу, безошибочно предвидит течение болезни, требовательна к себе и к другим. Расспрашиваю знакомых, оказывается, она и дома такая же «льдина–холодина». Что она, замужем?