Вольница
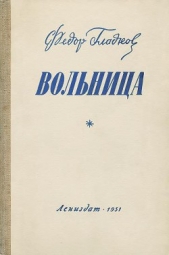
Вольница читать книгу онлайн
Роман «Вольница» советского писателя Ф. В. Гладкова (1883–1958) — вторая книга автобиографической трилогии («Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година»). В романе показана трудная жизнь рабочих на каспийских рыбных промыслах. Герои проходят суровую школу жизни вместе с ватажными рабочими.
В основу «Вольницы» легли события, свидетелем и участником которых был сам Гладков.
Постановлением Совета Министров Союза ССР от 22 марта 1951 года Гладкову Федору Васильевичу присуждена Сталинская Премия Первой степени за повесть «Вольница».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отец молча надел картуз и вышел.
Женщины начали говорить о деревне: расспрашивали мать о бабах, о старухах, а мать оживилась, охотно передавала все мелочи нашей недавней деревенской жизни: Лицо её раскраснелось, глаза засияли, и голос звенел и вздыхал, словно она причитала без напева. Офимья молчала и тупо смотрела в стену, словно в столбняке, а Манюшка опять ахала, охала, всплёскивала руками, покачивала головой, вытирала слёзы, с жадным любопытством смотрела матери в глаза и улыбалась.
А я сидел перед самоваром и с наслаждением пил жёлтый чай из блюдечка, посасывая кусочек сахару. Дунярка толкала меня ногой и локтем, поглядывала на меня с лукавой насмешкой и шептала:
— Ну, дорвался до чая… кутёнок курносый! Не пил, что ли, этого добра? Уж два стакана выдул… вот умора-то!.. Пойдём на двор, поиграем.
В открытые окна густыми волнами вливались стоны церковных колоколов.
V
Наша улица на окраине города была похожа на деревенскую: те же деревянные избы с карнизами, с резными наличниками, с воротами под двускатным навесиком. Дощатые заборы были высокие, с шипами из гвоздей. В каждом дворе лаяли цепные псы: на ночь их спускали против воров. Здесь жили дрогаля, легковые извозчики, мелкие лавочники и ютились в мазанках и стареньких флигелях рабочие местных ватаг, грузчики, лотошники, швейки, подёнщики — местная и сезонная голытьба. Улица была широкая, злая от зарослей колючей травы, с узенькими — в две доски — тротуарчиками. В дождливые дни земля превращалась в грязное, бурое месиво, непрохожее и непроезжее. Даже женщины носили сапоги, чтобы одолеть переходы через улицу и переулки. А в знойное время земля засыхала каменно-твёрдыми кочками, седыми от налётов соли, и казалась покрытой инеем. Это был унылый, неприютный посёлок, пропахший гнилой рыбой, отбросами и дымом коптильных заводов. И ни одного деревца, ни одного палисадничка не зеленело в серой мути улицы и угрюмо однообразного ряда старых изб. Днем улица была пустынной, безлюдной, а ночью погружалась в сон. Фонари стояли только на углах переулков, и по вечерам я видел, как в один и тот же час шёл с лестницей на плече серобородый кривой старичок. Он приставлял лестницу к фонарю, прочищал пузырь волосатым пыжом и зажигал лампу. Её огонек одиноко и скучно теплился за мутным стеклом фонаря и не отбрасывал никакого света. И мне казалось, это этому сиротливому огоньку страшно среди глухой вечерней мглы. Когда я прислушивался к городу, мне чудился невнятный шум, похожий на далёкий ливень. Только гулко мычали гудки пароходов где-то очень далеко.
Отец каждое утро, ещё затемно, уезжал на блестящей пролётке и возвращался ночью. В длинном, пухлом кучерском армяке, с широкими плечами и задом в сборках, в чёрной шапочке банкой, он сидел на облучке чужой и важный, вытянув руки и делая вид, что натягивает ремённые вожжи, чтобы сдержать горячего бегуна. Но лошадь была смирная, похожая на Офимью, и совсем не думала рваться вперёд. Отцу нравилось ездить на пролётке, и он держался на облучке форсисто: расчёсывал бородку на две стороны, сидел напряжённо, понукал лошадь пронзительным чмоканьем, а сдерживал ласковой фистулой: трр!.. Хозяин провожал каждый его выезд, стоя на крыльце, и одобрительно мычал, упирая на «о»:
— Хорош! Добро! Только лошадь не загони. Ты больно-то не форси, не старайся: бери двугривенный, а вези на пятак. Только славу соблюдай: седок любит, чтобы извозчик на червонного валета смахивал. Работник-то до тебя был рохля, вахлак, пьянчужка: никогда больше трёшницы не привозил, а тебе и пятишны мало. Ежели так будешь работать, опять рысака заведу — в лихачах будешь. В Астрахани Павла Плотова всё купечество знает.
Отец, польщённый, усмехался и хвастался перед хозяином:
— Я, Павел Иваныч, на свадьбе аль на масленице красивше всех в поездах ездил: весь народ любовался. И лошадь меня любит, так и веселится, так и прядёт ушами. А едешь — селезёнка у ней так и ёкает.
— Толкуй с досады на все Исады! Езжай с богом!..
Хозяин позёвывал, лениво сходил с крыльца и отворял ворота. Отец истово крестился и выезжал на улицу. Павел Иваныч запирал ворота длинным засовом и, сутулясь, уходил опять в горницу.
Несколько раз являлся уволенный им работник, который до отца ездил на пролётке. Это был низкорослый, волосатый, в рваном пиджаке, в залатанных брюках, весь пропыленный человек с угарным красным лицом, с грязной бородой. Он подходил к крыльцу и требовательно тянул:
— Эй ты, хозяин! Павел Иванов! Покажись, что ли! Где ты там спрятался? Эй, мужик!
Выходила Офимья и бесстрастно спрашивала:
— Ты что это людей тревожишь, Евсей? Аль душа не на месте?
— Офимья Васильевна! Ведь без ножа вы меня зарезали… За три месяца не заплатили. И на меня же начёт вышел. А я ли не работал вам?
— Ничего я не знаю, Евсей-батюшка, — уныло отвечала Офимья. — Не это у меня на уме. Ты уж с самим считайся. Богу бы молился, а не шатался бы, не грешил бы зря.
Евсей срывал бесцветный и пропотевший картуз сиголовы и жаловался:
— Офимья Васильевна, ты женщина правдивая. Слова от тебя дурного не слыхал. А кровь-то мою зачем пьёшь? Три месяца трудился. Куском хлеба корили… и зажилили мои трудовые. Да сундучок мой в залог задержали. Мне молиться нечего: я чужого не брал. А вы раздели меня, обездолили.
— Не греши на меня, Евсей! — равнодушно гудела Офимья и пристально смотрела на него бездумными глазами. — И так греха много. Замучились от грехов-то. Не знаю, как отмолить их. И ты вот… Голод-то голод, а выпимши.
— С горя, Офимья Васильевна, от обиды… Отдайте, Офимья Васильевна, мои кровные — тринадцать целковых! Не отдадите, новому работнику мослы поломаю, а то… Ну да попомните меня!
Выходил Жеребок с поленом в руке и молча спускался с крыльца, угрюмый, тяжёлый, с дикими глазами. Евсей юрко кружился около Жеребка, хитро скалил зубы и нахально покрикивал:
— Какой ты хозяин, Павел Иванов? Ты середь дня людей раздеваешь. Где мои кровные денежки? Ты не махай поленом-то — всё равно не попадёшь… а полено о двух концах. Поленом не отделаешься. Жив не буду, а своё выдеру! Гляди, Павел Иванов, как бы не покаялся…
Он ловко отстранялся от взмаха хозяина и смеялся ему в лицо. Потом расторопно бросился к калитке и быстро захлопнул её за собой. Хозяин, озверевший, тяжело и грузно шагал обратно к крыльцу.
А на улице мстительно орал Евсей:
— Грабители! Кровопийцы! Одна богу молится, а другой с чертями водится. Жеребок! Не забывай, как ты артельщика-то напоил да ограбил его, пьяного… да как артельщик через тебя удавился. Не миновать тебе подлой смерти, Жеребок!
Офимья крестилась широким крестом и уходила в горницу. В открытые оконца флигелька высовывались Манюшка и мать и с любопытством следили за скандалом.
Мать испуганно звала меня домой, но мне было очень интересно наблюдать за взрослыми людьми, и я притворялся, что не слышу её голоса. Вот и здесь, в Астрахани, такие же люди, как и в деревне: и здесь люди обижают друг друга, и здесь они делают какие-то страшные дела. И мне слышались стоны бабушки Анны: «Со знатными не тянись, с богатыми не борись». Силу богатых я уже достаточно видел и чувствовал: она — беспощадна. Жеребок выгнал за ворота Евсея, голого, босого, и прикарманил у него заработанные деньги и последнюю рубашку. Евсей же только попусту орёт на улице и грозит Жеребку отомстить, а Жеребок спокойно уходит в горницу, зная, что галаху Евсею ничего не остаётся, как беситься и орать. Я тоже возненавидел хозяина — возненавидел ещё с того часа, когда он за столом у Манюшки обидно говорил с отцом, называл его вором и стращал содрать с него шкуру. А сейчас я уже твёрдо знал, что не Евсей был вором, а сам Жеребок, что, несомненно, он ограбил какого-то артельщика.
Дунярка, весёлая после одного из таких скандалов, подпрыгивая, бежала ко мне с растрёпанными волосами.
— Иди-ка, Федяшка, что я тебе скажу… Пойдём за конюшню, там у меня своя фатерка есть.


























