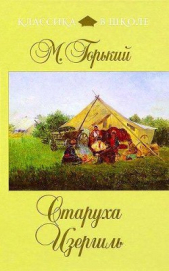Я люблю

Я люблю читать книгу онлайн
Авдеенко Александр Остапович родился 21 августа 1908 года в донецком городе Макеевке, в большой рабочей семье. Когда мальчику было десять лет, семья осталась без отца-кормильца, без крова. С одиннадцати лет беспризорничал. Жил в детдоме.
Сознательную трудовую деятельность начал там, где четверть века проработал отец — на Макеевском металлургическом заводе. Был и шахтером.
В годы первой пятилетки работал в Магнитогорске на горячих путях доменного цеха машинистом паровоза. Там же, в Магнитогорске, в начале тридцатых годов написал роман «Я люблю», получивший широкую известность и высоко оцененный А. М. Горьким на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.
В последующие годы написаны и опубликованы романы и повести: «Судьба», «Большая семья», «Дневник моего друга», «Труд», «Над Тиссой», «Горная весна», пьесы, киносценарии, много рассказов и очерков.
В годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом, награжден орденами и медалями.
В настоящее время А. Авдеенко заканчивает работу над новой приключенческой повестью «Дунайские ночи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Осадите, ваше благородие.
Впереди засмеялись. Нос пристава полыхнул синим гневом. Стукнув каблуками, он брезгливо закричал:
— Прочь, поганый пропойца! Забрать! — приказал он, пробиваясь к Гарбузу. Его пропустили в середину, но, как только он оказался в кольце, забойщик Коваль, подмигнув, ткнул его в Спину. Вытянулось много рук, и низенький, с туго накачанным брюшком, пристав замелькал мячом.
В это время широко открылась высокая дверь и в лихо заломленном сине-красном картузе на кучерявом чубе, верхом на лошади ворвался первый всадник казачьей сотни. Наотмашь, в протяжку, опытно и заученно, он ударил плеткой Дубняка через лоб к затылку. Крепильщик вскрикнул, схватился за лицо. Казак хлестнул его поперек горла, по костяшкам пальцев, а когда Дубняк затряс ими в воздухе, тот, крякнув, ударил его еще раз.
Подогнув колени, Дубняк тихо опустился на пол. Лошадь, брызгающая пеной, придавила его копытами. Поднявшись на дыбы, кроша подковами кирпич, она наступала на людей.
За первым казаком вскочили еще. Замелькали красные околыши под окнами, ощерились пики, захрапели лошади.
— На кого саблюку наточили, чубатые? — истошно, с пьяной удалью закричал кто-то с верхних нар. — С кем воюете, красные лампасы, дурачье?
— Не дурачье они, а душегубы.
— Эй вы, войско донское храброе!.. — не унимался пьяный голос. — В Маньчжурии бы вам свирепствовать, японцам-супостатам головы рубить, а вы тут…
— У, вы, ж…лизы, шлюхи самодержавные!
Казаки похватали всех зачинщиков бунта, всех недовольных угнали в участок, и в бараке стало тихо.
Никанор забился в темный угол нар, закрыл голову тряпьем, ничего не желал видеть и слышать. «Что наделали, бунтовщики! — думал он. — Да разве хозяина пересилишь? Разве свою добрую долю нахрапом раздобудешь? Терпи, работяга, терпи, счастливым станешь».
Долго недомогал Никанор, но отлеживался мало, неохотно и сердито ворча на себя: «Ишь, лежебока, рукобелый». Выздоравливал на ногах, в работе. И угля добывал меньше, и заработки упали, и ел хуже, — страшный кашель, часто с кровью, терзал тело, — но не жаловался. Лишь к осени окончательно стряхнул с себя все болячки, прочно стал на ноги.
Землянку теперь достраивал праздниками. Ни одного воскресенья не пропускал, пока не навесил дверь и окна, не соорудил сарайчик для поросенка. Забив последний гвоздь, медленно прошелся перед землянкой, любуясь воздвигнутой собственностью. Добра хатына, своя!.. На золотом фундаменте покоится она. Если б не хозяйские золотые, то не было бы и хаты. Вот, как ни убегала от него добрая доля, а он все-таки поймал ее, приручил. Такая, значит, арифметика. У всякой твари есть свое гнездо, должно быть оно и у человека. Теперь, когда есть своя хатына, жизнь переменится. Должна перемениться. Самая крутая гора пройдена, теперь под гору, только под гору шагать: все деньги, сколько ни заработаешь, можно тратить на хлеб и говядину, на обувку и одежду. А через годик или два можно и на черный день откладывать по трешке или пятерке в месяц. Одним словом, жизнь начинается, настоящая жизнь!
И неправда то все, чистая неправда, злые выдумки, что поют по вечерам пьяные о шахтерах: «Шахтер-холод, шахтер-голод. Нет ни хлеба, ни воды. Нет ни хлеба, ни воды. Нету воли никуды». Есть у Никанора и вода и хлеб, есть и крыша над головой, и воля, и сила. Все есть, чем жив человек.
Никанор с хозяйской удалью и твердостью ударил кулаком в дверь землянки, распахнул ее. Перешагнул порог и, оставляя на незатвердевшем еще глиняном полу огромные следы веревочных лаптей, ухмыляясь, протрубил басом:
— С собственностью вас, Никанор Тарасович!
Вселялись в новое жилье глубокой осенью — на дворе уже ледок затянул лужи, грязь на улицах засухарилась, а на вербе остекленел иней. После светлого морозного дня в землянке показалось темно, сыро и тесно, но все промолчали.
Внесли в халупу три мягких узла с дерюгами, подушками, носильными вещами, гремящий мешок с железной посудой, ведра, корыто, коромысло с кочергой и огромную, ведра на три, глиняную поливаную макитру для теста. За пазухой у Кузьмы отогревались два торкута — белые, лохматоногие, чубатые голуби. Бабка Марина прижимала к груди потемневшую икону и божественную картину в рамке — «Тайная вечеря». А в карманах ее зипуна, в узелках и в маленьких мешочках хранились заветные духовитые травы, собранные в Батмановском лесу и в степи, за рекой. Переступив порог землянки, она перекрестилась, развязала туго набитый полотняный мешочек, достала из него щедрую щепоть сухой травы и опылила ею сырые углы халупы — северный и западный, южный и восточный. Опыляет и приговаривает:
— Сгинь-пропади навеки и мокрица, и шашель, и мышь, и блоха, и клоп, и гнида, и всякая чирва, летающая и ползающая, и болезня видимая и невидимая, работящему человеку страшная. Чур, чур, чур. Фу. Ха. Аминь!
Никанор не верит ни в бога ни в черта, ни в знахарские травы еврей жены. Только в силу рук своих верит. Но он не мешает Марине колдовать, не подсмеивается над ней — пусть себе утишается. Какой с бабы спрос!
— Ну, Груша, як, в самый раз хатыну построили, а? — Никанор положил руку на полное мягкое плечо невестки.
— Да, батя, в самый раз. Скажу по правде, я так боялась, так боялась, шо в балагане, среди чужих мужиков придется второго сына на свет божий выпускать.
— Знал я про твои страхи, того и спешил строиться. Все теперь позади, Груша. Дома ты. Выбирай себе красный куток и устилай пухом гнездышко.
— Спасибо, тато!
Горпина, вся в веснушках, с распухшим носом, но веселоглазая, облюбовала самый светлый угол в землянке, повесила колыску.
Тут же, у колыски, Остап соорудил для себя и жены дощатые нары, накрыл их дерюгой. А Никанор и Марина облюбовали себе спальное место на печке: на ее лежанку они забросили соломенные подушки, веретье, одеяло.
Все работали, всем было дело, один только Кузьма со своими голубями, спрятанными за рубашкой, неприкаянно слонялся по землянке, не находил себе места, путался в ногах. Горпина наградила его подзатыльником.
— Сядешь ты или не сядешь, маятник?
Кузьма захныкал:
— Мам, тут холодно.
Никанор покосился на внука: «Ишь, какая кислятина благородная. Хоромы ему подавай. Не нашего покрою хлопчик, не нашего».
Зажгли каганец. Тряпичный фитиль, пропитанный постным маслом, тихонько затрещал, вкусно зачадил. По глиняным, еще не просохшим стенам домовито поплыли огромные тени — Никанора, Остапа, Марины, Горпины. От живого человеческого дыхания запотели подслеповатые оконца, врезанные на уровне земли. Кто-то притащил сухого терновника, щепы, и в холодной утробе русской печки вспыхнул яркий веселый огонь. Красные языки жадно лизали крутые закопченные бока ведерного чугуна. И этот огонь сразу оживил, наполнил теплом мертвую земляную нору, сделал ее человеческим жильем. А после того как бабка Марина кинула в огонь щепоть какой-то сухой чудодейственной травы, когда по землянке поплыл медово-мятный дух, когда глаза сладко, до слез, защипал церковно-угарный дымок, все окончательно, твердо почувствовали себя и дома и по-праздничному хорошо. Марина широко перекрестилась.
— Ну, слава тебе, боже, теперь и у нас есть крыша!
— И нашим мозолистым рукам слава, — усмехнулся Никанор. Он подмигнул Марине, указал бородой на стол. Она радостно закивала: поняла, мол, все поняла, Никанорушка. Достала из мешка новенькую клеенку, в алый цветочек, накрыла ею дощатый, на козлах, стол. И тут же на праздничном столе, как на скатерти-самобранке, появилась буханка пшеничного хлеба, глиняная миска с огурцами, селедка, аккуратно нарезанная, окруженная ломтиками цибули, чугунок с холодным вареным картофелем.
Никанор извлек из бездонных карманов своих широченных штанов две красноголовые, с прозрачной жидкостью бутыли, водрузил на стол.
— Ну, христьяне, будем пировать по такому случаю. Сидай, Остап, ты не в гостях, а дома. Горпина, бросай свою люльку, плюхайся рядом с коханым мужем. Марина, поспишай до своего владыки, милуй, обнищай, расцветай, як той мак. И ты иди, Кузька. Эх, и гульнем же мы сегодня!