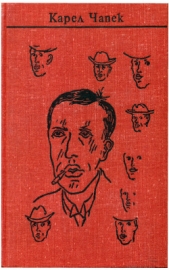Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое
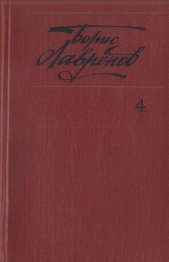
Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое читать книгу онлайн
В том включены три романа Б. А. Лавренева: «Крушение республики Итль» (1925), «Буйная жизнь» (1926), «Синее и белое» (1933).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И лейтенант тоже узнал Глеба. Оба сказали одновременно:
— Борис Павлович?
— Алябьев!
В розовой слепительности света Глеб увидел знакомую уже мучительную судорогу тика, дернувшего щеку лейтенанта. Было похоже, что он озлился на неожиданного пришельца, нарушившего его одиночество. Но луч прожектора сорвался вбок, улетел, лицо исчезло, а голос артиллериста из темноты прозвучал гостеприимно:
— Прыгайте ко мне, Алябьев.
Глеб перепрыгнул узкую полоску воды, разделяющую камень от берега. Смутно белеющее в темноте, чернильно-густой после ослепляющего света фонаря, худое лицо улыбнулось ему навстречу приветливо. Калинин, видимо, был в размягченном настроении.
— Гуляете? — спросил Калинин.
— Догуливаю последний час, Борис Павлович.
— Почему же в одиночку? Не по-мичмански, — сказал с легкой усмешкой лейтенант. — Ваша порода без бабы — явление ненормальное.
— У меня никого нет в Севастополе, Борис Павлович.
— А не в Севастополе?
Вопрос показался Глебу несколько неуместным, но что-то заставило ответить просто:
— Есть в Петербурге.
— Тогда понятно, — голос Калинина стал теплым. — Ну, присаживайтесь рядом. Мне кажется, — я присматриваюсь к вам все это время, — что у вас есть хорошие задатки. Это довольно редкий случай в морской практике. Может быть, из вас выйдет дельный моряк и честный человек.
Глеб опустился на камень. Камень был еще теплый от дневного зноя. Сухие космы покрывавших его водорослей, дохнули солоноватой терпкостью. Набегавшая мелкая рябь стеклянно плескалась о ребра камня.
— Ну, как? — спросил лейтенант после недолгого молчания. — Много вам за эти дни наговорили про меня страхов? Рассказывали, что я идиот, что место мне в сумасшедшем доме?
— Знаете, Борис Павлович, — ответил Глеб. — Меня совершенно не интересует, что о вас говорят другие. Но, если хотите знать правду, первая встреча с вами произвела на меня странное впечатление.
— А именно? — осведомился лейтенант, и Глеб уловил в вопросе болезненную горечь.
— Не сердитесь, Борис Павлович. Мне показалось, что вы человек очень неровный. С вами нужно быть очень начеку, и трудно угадать, как вам угодить?
Калинин засмеялся.
— Это вы по молодости, мой друг, не можете разобраться. Мне совсем не трудно угодить, нужно только по-настоящему любить морское дело, службу, не быть лодырем, не переносить центра тяжести жизненных интересов с корабля на Приморский бульвар и в бильярдную морского собрания.
Глеб смутился. Неужели Калинин бьет прямо по нему? Может быть, он видел, как, томясь от скуки, Глеб забрел после обеда в бильярдную, чтобы скоротать время? Но Калинин смотрел не на Глеба, а в море и, видимо, говорил вообще.
— Я не терплю таких рыцарей бульвара и бильярдной. Какие из них, к черту, офицеры, командиры? Куда они могут вести флот? Поверьте, милый друг, я говорю на основании мучительного личного опыта. Десять лет назад, кончая корпус, я сам был таким же прохвостом. В голове у меня была Сахара, и в ней носились беспорядочные самумы петушиной самовлюбленности и глупости. Я чистосердечно считал себя солью земли, чуть ли не пупом Российской империи, только потому, что на плечах у меня были гардемаринские погончики, а на пустой голове фуражка с белыми кантами. Я шлялся, задрав голову, и думал, что мной обязан восхищаться весь мир.
Если бы в это мгновение боевому фонарю миноносца вздумалось опять ударить лучом в берег, он осветил бы мичманское лицо весьма интенсивной окраски. Лейтенант Калинин бил сейчас каждым словом, без промаха, по Глебу, по недавнему, вчерашнему Глебу.
— Возможно, я так и остался бы тротуарным ослом, если бы не большой экзамен. В октябре тысяча девятьсот четвертого я добровольно пошел с тихоокеанской эскадрой и, бестолково проплыв четырнадцать тысяч миль, под конец проплавал семь часов в довольно холодной воде Японского моря на спасательном буйке, с перебитой рукой, помогая плавать лейтенанту Донцову с перебитыми ногами. Он так и не доплыл до подобравшего нас японца, — его подняли на палубу уже не лейтенантом, а трупом. А я просидел до конца войны в Японии и там заново родился и переучился. Я увидел Японию и после нее стал другими глазами смотреть на нас. Я понял, что такое настоящий флот, настоящие матросы, настоящие офицеры. Мы, офицеры страны, занимающей шестую часть мира, были жалкой беспомощной дрянью по сравнению с офицерами странишки, которая целиком влезала в мой родной Липецкий уезд. У нас не было ни подлинных знаний, ни подлинной любви к родине, ни сознания своей ответственности перед ней. Мы только требовали и ничего не давали. Мы были сутенерами своей страны, милый друг.
— Я думаю, вы несколько преувеличиваете, Борис Павлович, — взволнованно сказал Глеб. — Ведь были же хорошие моряки и в нашем флоте.
— Были отдельные хорошие намерения у плохих моряков, — резко сказал Калинин, — и только. Система воспитания не могла рождать хороших моряков. Она рождала карьеристов, алкоголиков и завсегдатаев публичных домов, а эти качества в морском бою благоприятных результатов не дают. Даже если были на флоте десять моряков, которые знали службу, — одна ласточка весны не делает. Я познакомился в Японии с постановкой артиллерийского дела на флоте. Это меня потрясло. Страна, полвека назад не знавшая огнестрельного оружия, сделала такие успехи в артиллерии, что наши пушки, наши комендоры, наши правила стрельбы оказались отодвинутыми в восемнадцатый век. И, когда я вернулся домой, я поставил себе задачей поднять артиллерийскую часть на современную высоту. Десять лет я все свое уменье и силы отдаю этому делу. Но сделать удалось крупицу того, что нужно было сделать.
— Вы скромничаете, Борис Павлович, — возразил Глеб. — Не скрою, что я уже слыхал о вас отзывы как об исключительном артиллеристе.
— Да не в этом же дело, черт возьми! Нужно, чтобы наш флот был исключительным по артиллерийской мощи, а не лейтенант Калинин артиллерийским самородком-одиночкой. Какому дьяволу нужна такая персональная натасканность? Я долблю без передышки морской генеральный штаб своими докладными записками по артиллерийской части и за это заслужил только репутацию человека, сующего нос не в свое дело и психопата. Я исписал несколько стоп бумаги на эти записки, а осуществлена из них едва ли десятая часть, да и ту у меня уворовали штабные хлыщи. Правда, кое-чего удалось добиться, стреляем мы, конечно, в общем, лучше, чем в пятом году, но мы должны стрелять лучше всех, а немцы, морская история которых короче воробьиного носа, могут нам дать десять очков вперед. А ведь нашему флоту двести лет, и ведь были же у нас Сенявин, Ушаков, Нахимов! То, что волнует меня потому, что я научился у японцев любви к родине, — не волнует других. Не все ведь принимали крещение в Цусимском проливе, и не всем промыло мозги. И когда я вижу, что рядом со мной на каком-нибудь «Ростиславе» сидит артиллерист, который с десяти кабельтовых не может попасть в город Севастополь, не говоря о щите, мне делается не по себе, мой друг, ибо вторая Цусима утопит не только нас с вами и корабли, но утопит Россию. Не будет России — вы понимаете, что это такое?
— Ну, Россия всегда останется, — сказал Глеб, несколько раздраженный мрачным пророчеством лейтенанта. Фраза «не будет России» неприятно напомнила ему слова Шурки Фоменко, тоже предсказывавшего, что военное поражение уничтожит «вонючую Россию».
Но самоуверенное возражение сыграло роль искры, неосторожно поднесенной к горючему, и лейтенант Калинин взорвался, как снарядный погреб.
— Черта вы понимаете в этом, щенок! — крикнул он внезапно тонким и резким голосом. — Слушайте, когда вам говорит старший, который умнее вас. Да, умнее! Подумаешь — защитник попранной российской чести! Поверьте, мичман, Россию я люблю не меньше вас, а больше, потому что вы и России-то не знаете. Ничего вы не знаете, кроме количества подштанников в вашем чемодане и дюжины похабных анекдотов.
— Позвольте, Борис Павлович! — возмутился Глеб.
— Что позволять? Что позволять, я вас спрашиваю? — повышал голос Калинин. — Позволять вам оставаться невинным в мыслях сосновым пнем? Пожалуйста, милости прошу, — вольному воля.