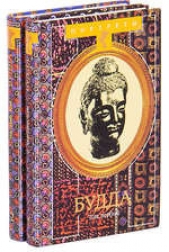На сопках Маньчжурии

На сопках Маньчжурии читать книгу онлайн
Роман рассказывает о русско-японской войне 1905 года, о том, что происходило более века назад, когда русские люди воевали в Маньчжурии под начальством генерала Куропаткина и других царских генералов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Голос звучал легко, просто, человек в этом большом зале говорил так, точно сидел у себя, в своей комнате; все повернулись к нему, многие встали, чтобы лучше разглядеть его.
— В Петербурге шесть лет назад, — продолжал неизвестный, — интеллигенция, которую ругает Сомов, провела забастовку тридцати тысяч текстильщиков. И так здорово провела, что царское правительство издало закон о сокращении рабочего дня. Есть у многих наших интеллигентов совесть, и совесть указывает им путь: к нам и вместе с нами.
Голос смолк… в зале было тихо. Вдруг снова прозвучали слова:
— На виселицу идут ради нас, на каторгу… Эх, господин Юрченко да господин Сомов, совестью торгуете!
Великокняжеский адъютант кашлянул и встал; ждал, что собравшиеся вступятся за Сомова и Юрченку… Никто не вступился… Голос неизвестного точно сковал их волю и разум. А Цацырин переживал настоящий восторг. Во-первых, потому, что этот голос властного, ничего не боящегося человека, уверенного в своей правоте к силе, высказал его собственные мысли; во-вторых, голос был знаком, знаком!
«Мне знаком этот голос», — хотел он сказать соседке, но в это время Юрченко и Сомов пришли в себя и закричали:
— Братцы, «Боже, царя храни» споем, покажем ему…
Они затянули гимн, с десяток голосов подхватили напев. Как только пение смолкло, группа мастеровых, среди которых был неизвестный оратор, двинулась к выходу.
Цацырин хотел пробраться к ним, но в зале началась такая сутолока, что он долго не мог сделать ни шагу, и вышел на улицу спустя четверть часа вместе с синеглазой девушкой.
— Вы что же не пели? — спросил он, нагнувшись к ее уху.
Усмехнулась, показала рукой на горло — болит, мол, горло.
Пошли рядом. Свет редких фонарей, свет из окон. Тротуары, потонувшие в снегу, прохожие, торопливо шагающие, шубы и куртки… дворники в тулупах. Скрипят полозья саней, проехали розвальни… муку везут в пекарню.
— Меня зовут Машей, а вас? — спросила девушка.
— Меня — Сергей Иванович, Сережа. Маша! Маша — это ведь очень красивое имя.
— Какая же в нем красота? — девушка спросила насмешливо. Щеки ее розовели на морозе.
— Очень, очень красивое. Значит, вы не пели «Боже, царя храни»?
— Но ведь и вы не пели?!
— У нас в Питере не поют.
— Вот как! У вас в Питере не поют! Так вы питерский?
— С Невской заставы!
— Ого, даже с Невской!
— А вам известна Невская застава?
— Кто же не слыхал про питерские заставы?!
Они нащупывали друг друга… свои? чужие?
Шли по заснеженной улице… Она смотрит на него искоса, поправляет платок. Честное слово, какая милая девушка!
Осторожно стали обмениваться мнениями по поводу всего того, чему были свидетелями на собрании.
Шли очень медленно, и, когда подошли к штабелю дров на перекрестке, Маша остановилась. Где-то отрывисто, хриплым басом лаял пес.
— Далеко мы с вами зашли… Вы где живете?
Цацырин назвал.
— Далеконько забрели вы от своей гостиницы… ноги замерзнут.
Протянула руку… крепко пожимает! Свернула направо. Ушла. И так ушла, что он не посмел пойти за ней. Постоял и зашагал в гостиницу. Как же так получилось, что он не спросил ее про адрес?
Шел, сунув руки в карманы куртки, счастливый всем тем, что жизнь привела его сегодня увидеть и узнать, и несчастный оттого, что девушка ушла и, по-видимому, он потерял ее навсегда.
3
Маша постучалась у калитки в глухом заборе. Хлопнула дверь, заскрипели шаги по снегу.
— Это я! — сказала Маша.
И вот она раздевается в небольшой передней, дверь в комнату открыта, в комнате Хвостов, Антон Егорович и Горшенин. На столе шумит самовар.
— Не ожидала гостей?
— Не ожидала.
— Ну, здравствуй… Ой, холодна рука!
— Антон Егорович, мороз же!
— Хоть не хозяин, но налью тебе чаю.
— Антон Егорович, — сказала Маша, — когда я услышала там ваш голос, сначала до смерти обрадовалась, а потом перепугалась.
— За меня?
— За вас…
Грифцов поставил перед ней стакан чаю.
— Да, признаться, положение у нас трудное… эти так называемые рабочие союзы да собрания — явная ловушка. Выступит какой-нибудь неосторожный революционер — и попал в сети.
— Вот именно, Антон Егорович!
— И выступать нельзя, и не выступать нельзя. Но ничего, Машенька, на этот раз шпикам ничего не очистилось. Они и туда и сюда… а мы вышли кучкой, да по извозчикам, да в разные стороны… Горшенин, молодчина, все превосходно организовал.
После мороза, после удачного выступления хорошо в теплой комнате пить чай с друзьями.
— Если свежий, неискушенный человек попадет в Россию, удивительные дела увидит на святой Руси, — говорил Грифцов, — всюду нагайки, аресты… В день моего отъезда в Питере стали хватать даже членов благотворительного общества «Доставление книг больным на дом» — старушек да розовых барышень. Не постыдились! А тут, в Москве, благосклонно разрешаются рабочие собрания, и гостями на них приезжают адъютанты великих князей со своими дамами, а подчас и сами великие князья. Воистину чудные дела!
Хвостов курил на койке. Бросалось в глаза сходство между ним и Машей, хотя Хвостов не был красив, а Маша, бесспорно, была хороша. Кровное сходство: дядя и племянница.
— Папаша мой встревожен зубатовскими делами не меньше нас, — заметил Горшенин. — Позавчера пригласил меня к себе. Стол накрыт к ужину на две персоны, водки, коньяки, вино одного сорта, вино другого сорта, апельсины яффские горой. «Ну, садись, Леонид, закусим с тобой» — и прочее. По правде сказать, товарищи, противно было мне садиться с ним за стол, но сел, взялся за осетровый балык, ем и слушаю. Оказывается, на днях начальник охранного отделения пригласил виновника моей жизни к себе и сказал: «Рабочие готовят вам требования. Вы, Виталий Константинович, должны эти требования удовлетворить. Если не удовлетворите, закроем вашу фабрику навсегда».
— Ого! — воскликнул Грифцов.
— Отец решил не то что посоветоваться со мной, а излить передо мной свои чувства.
— Гм… почему же перед тобой?
— Думаю, потому, что я студент, то есть потенциальный враг охранки.
— Возможно.
— Родитель убежден, что Зубатов защищает дворянско-помещичьи интересы.
— Валевский не лишен ума. А чем же он решил ответить на предложение жандарма?
— Возмущен… но, думаю, согласится.
Грифцов засмеялся.
— Нет зрелища более утешительного, чем зрелище врагов, которые вцепились друг другу в глотку.
Вынул из кармана тужурки листок, положил на стол:
— Эту листовочку мы сегодня набрали и отпечатали. Читана уже здесь, в Москве, товарищами и одобрена. Прошу ознакомиться…
Три головы склонились над мелко написанными строками.
«Российская социал-демократическая рабочая партия. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Правительство посылает против нас на помощь фабрикантам жандармов и шпионов. Жандармы и шпионы окружают нас, мы чувствуем себя точно в паутине. Но прежние жандармы и шпионы не много могли сделать, и вот правительство нашло новый способ для борьбы с нами: оно открыло собрания механических рабочих и ввело открытое шпионство…»
…Слышно было тишину за стенами дома. Этот маленький деревянный особнячок, окруженный высоким забором и снежными сугробами, сейчас был одним из центров борьбы за великую народную правду.
Первым ушел Грифцов. Ушел в морозную ясную ночь, наполненную ночными шумами, скрипом полозьев, окриками ямщиков, шагами запоздалых прохожих. По дороге вскочил в пустые санки. Уличные фонари побежали навстречу, темные окна домов, перекрестки, площади. Дул в лицо морозный ветер. Грифцов поднял воротник пальто.
Вторым ушел Горшенин, надев студенческую фуражку, натянув тужурку…
— Леня, вы когда-нибудь замерзнете! — предупредила Маша.
— Но, но… Марья Михайловна, студенты не замерзают.
…Уже совсем остыл самовар, а дядя и племянница всё сидели за столом.
— Правильно сделала, Маша, что приехала навестить дядю, — сказал Хвостов, — и дядю посмотришь, и в делах наших московских разберешься… Когда я уезжал из Питера, ты бог знает какая была маленькая… Мать как? Наверное, постарела?