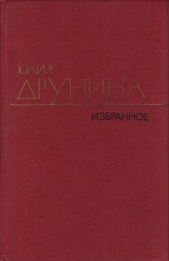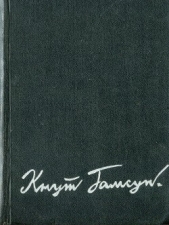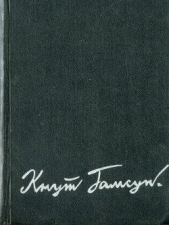Избранные произведения в трех томах. Том 1

Избранные произведения в трех томах. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том включены два широко известных романа: "Товарищ агроном" о жизни послевоенной колхозной деревни и "Журбины", посвященный рабочему классу. В нем рассказывается о рабочей династии кораблестроителей, о людях, вся жизнь которых связана с заводом, в реконструкции которого они принимают активное участие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Неужто всех? — удивился Рожков.
— А как же, сынок! Всех до единого. Память долгую оставили. Выйдете когда на улицу, сами полюбуетесь.
Чай был допит, пышки съедены. Рожков с Замошкиным поблагодарили хозяйку, надели прогревшиеся у печки полушубки, затянули пояса, пошли к машине.
Снегопад прекратился, отощавшие за ночь тучи сдвинулись к западу, на востоке небо студено пламенело, предвещая ясный день и хорошую дорогу. Солнце еще не взошло, но лучи его раскинулись веером над дальними лесами. Розовый свет скользил по вершинам тихих елей и придорожных берез. Утренние дымки вились над кровлями заснеженных домиков.
— Деревня–то позже отстроена, — сказала хозяйка, появляясь на крыльце. — А первым из пожарища мой дом поднялся. Без печки если считать, в пять дней его сложили. Вот тут полный календарь…
Рожков и Замошкин с удивлением смотрели, куда указывала рукой хозяйка: бревенчатые стены ее избы были испещрены надписями. Одни, должно быть, выжигались раскаленным в бивачном костре железом, другие вырубил острый саперный топор, третьи несмываемой краской вывела кисть откуда только и заявившегося на походе маляра…
Рожков подошел ближе.
«Восемь венцов, — читал он, — уложили бойцы стрелковой роты лейтенанта Ивлева. Ложкин, Степанов, Русаков, Антюфеев, Рукавишников. 18.2».
«Под крышу дом колхозницы Лазаревой подводил расчет 152‑мм пушки–гаубицы старшего сержанта Окунева в составе…» Шло семь фамилий.
«Кровля сработана в один день. А день в феврале (21 число) — 9 час. 39 мин. (смотрели в календаре у писаря). Саперы Свайкин и Сундуков».
«Желаем вам, мамаша Евдокия Антроповна, счастливой жизни. Если через окошки с нашими рамами солдат прохожих увидите, помашите им платочком и вспомните Кузовкина, Пашина, Рублева. Минбат».
Замошкин давно уже возился около машины, разогревая мотор, а Рожков еще ходил вокруг дома; разглядывая удивительные надписи.
Теперь он знал, что обещание, данное редактору стенной газеты, сдержит. Ему оставалось только попросить у хозяйкиных ребятишек листок бумаги да карандаш. А заметка? Она уже давно была написана армейскими топорами на стенах дома колхозницы Лазаревой.
1946
УЧИТЕЛЬ
В газете я прочел небольшую заметку. Корреспондент сообщал о сельском учителе, который в далеком хакасском улусе написал учебник географии.
Прочел я о происходившем в Сибири, но в памяти возникли совсем не те места, где живет и более четверти века учит ребятишек школьный географ.
Не стиснутые в каменных берегах протоки Енисея, не абаканские степные просторы, а скованный холодом Пулковский холм, пустынный, избитый снарядами, напомнила мне эта скупая заметка в несколько десятков строк.
И так живо напомнила, что, казалось, вновь зашел я в жаркую землянку в склоне знаменитого холма и вновь подсел в ней к столу из неоструганных толстых тесин. Январский ветер над сосновым накатом нудно плещет в ржавую жестяную трубу; чугунная печка дымит, шипят за неплотно прикрытой ее дверцей мерзлые обломки старых лип; на столе мечется язычок коптилки, и в сумраке глухо звучит голос лейтенанта Латкова.
Вернее, даже и не голос: старший адъютант говорит шепотом, чтобы не разбудить командира дивизиона. Как сообщил Латков, капитан лишь полчаса назад прилег на свой жесткий топчан, спит тревожно, стучит коленями о фанерную обшивку стены: сказываются двое суток, проведенных в командирской разведке с офицерами стрелкового полка…
Никому здесь, на изрытом холме, где лежат мертвые развалины обсерватории, еще неведомо, когда это произойдет: через неделю, послезавтра ли?.. А может быть, вот сейчас адъютанта позовет телефонный зуммер, и надо будет подымать капитана и вместе с ним по ночным заледенелым тропам спешить в штаб полка. И тогда на рассвете начнется то, чего еще нет, но что уже видит во сне командир дивизиона.
Холм безлюден только снаружи. Промерзшая его земля — под накаты землянок, под перекрытия траншей, в автомобильные щели, пробитые ломами в северных склонах, — ночь за ночью вбирает в себя поток людей, оружия, машин. Тут как бы скручивается тугая пружина, чтобы в какой–то миг разжаться и ударить — пустить на юго–запад стремительно изогнутую красную стрелу, отточенную на двухверстных картах карандашами офицеров штаба.
— До Красного Села дойдем, пожалуй, суток за двое, за трое, — шепчет Латков, перегибаясь через стол. — Потери? Что ж, и от себя это во многом зависит. Не останавливаться, не мешкать… На смелого собака лает, трусливого — рвет. Меня еще мальчишкой мой учитель так учил.
Латков взглянул в сторону скрытого мраком топчана; ему показалось, что командир дивизиона проснулся. Но тот спал, спал тяжелым сном усталого человека, и лейтенант продолжал еще тише:
— Он даже наглядный урок по этой пословице устроил как–то, наш Василий Иванович. Любил наглядность!
С Латковым случилось именно то, что случается со многими перед близким боем: неодолимая сила потянула его к воспоминаниям.
— Вот, скажем, взять меня… — Подперев кулаком скуластую щеку, он щурился на огонек. — Я, как видите, вырос, я офицер, отмечен орденом, дважды увозился с огневых на санитарной волокуше, а уроки Василия Ивановича до сих пор мне памятны. Никогда, думается, их не позабудешь.
Латков принялся вертеть в руках плоскую зажигалку. В мыслях он был, наверно, где–то очень далеко от прокопченной землянки и не вновь ли сидел за испятнанной лиловыми кляксами партой, и не степные ли ветры слышались ему за обшитой мешковиной дверью?
— Ведет, бывало, нас учитель в луговые поймы. Приходим, смотрим: трава и трава, зелень. Уходим с луга, позади нас ковер. Трава–то, оказывается, не просто трава, а тут тебе и лисохвосты, и колокольчики, и вьюнки… «Знание открывает глаза человеку», — повторял Василий Иванович. Эту фразу, между прочим, можно услышать от него и теперь. Ну и все так: в лес ли пойдем, на реку — везде открытия. А то вот в классе… Принесет репродукции с картин Шишкина или Левитана. «Как, спрашивает, нравится? То–то! Красивая у нас страна! И богатства ее, друзья мои, неисчерпаемы. Давайте потолкуем, например, о Донбассе…»
Латков говорил о своем учителе так, как иной раз дети хвастаются друг перед другом отцами: и с восхищением, и с гордостью, и с сыновним уважением. Из его рассказов возникал образ мудрого, мягкого, ровного в обращении человека — наставника и воспитателя.
Лейтенант до того увлекся, живописуя этот дорогой для него образ, что позабыл о спящем командире и незаметно сошел с шепота на полный голос:
— А как, спрашивается, мы потолковали о Донбассе? Василий Иванович взял да и повез нас на угольные копи. Может быть, слышали про Черногорку? На Енисее. Наглядность, во всем наглядность!
— Что верно, то верно, товарищ лейтенант, — послышался простуженный голос из темного угла.
Заговорил связист. Два часа он просидел у телефона так тихо, что когда и шевелился, то казалось, там, в углу, за вспученной обшивкой, возится мышь.
— Наглядность — первое дело. — От раскаленной докрасна толстой проволоки, заменявшей кочергу, связист раскурил козью ножку. — Интересовался я позавчера, товарищ лейтенант, как наш капитан на третьей батарее учил подающего Петрова поспевать за темпом огня. Сам встал за заряжающего — и только давай, давай! Петров взмок весь, а не отстал. Потом и говорит: «Понял, товарищ командир дивизиона! Темп огня — важнейший фактор. Спасибо за науку». Или как с разведчиками капитан колючку резал!..
— Да, я вот ведь о чем начал! — перебил связиста Латков, поймав утерянную было нить беседы. — «На смелого лает, трусливого — рвет». Встретилась нам в какой–то, забыл, книжке эта пословица. Василий Иванович и предложил: «Давайте проверим народную мудрость. Кто берется пройти мимо кузни?» А попробуй пройди! У кузнеца пес был до того злющий!.. Колдуном звали.
На освещенном коптилочным огоньком лице Латкова появилось озорное, мальчишеское выражение.
— Не показать Колдуну своих внутренних переживаний, или, попросту, пяток, — усмехнулся он, — казалось делом совершенно невозможным. Но был у нас задира — Петька Седых. Штаны поддернул, утерся рукавом, шагает. Колдун — за ним, шерсть на загорбке вздыбил, визжит от злости, а хватить, глядим, не решается.