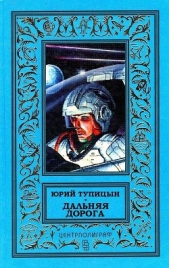Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе.
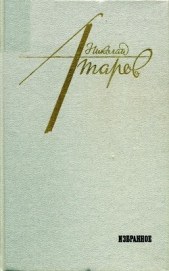
Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. читать книгу онлайн
Однотомник избранных произведений известного советского писателя Николая Сергеевича Атарова (1907—1978) представлен лучшими произведениями, написанными им за долгие годы литературной деятельности, — повестями «А я люблю лошадь» и «Повесть о первой любви», рассказами «Начальник малых рек», «Араукария», «Жар-птица», «Погремушка». В книгу включен также цикл рассказов о войне («Неоконченная симфония») и впервые публикуемое автобиографическое эссе «Когда не пишется».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Колокола звонят? — Голощеков удивленно прислушался.
Только сейчас я понял, как его выглушило в бою. Он снова монотонно заговорил, впервые вытаскивая из клубка всю ниточку спутанных, сбившихся соображений.
— Я не боялся смерти… Чего же я боялся? Растерять часть? Нарушить боевой курс? Я топтался, с трудом пробивая себе путь, и ложно докладывал. Да, ложно докладывал. А потом после бомбежки сгорели оперативные документы, были убиты многие штабные работники, я потерял все три рации, — связь прервалась, и я просто замолчал. Но я ведь не вчера замолчал — раньше, гораздо раньше! Когда еще выгружались и шли ночными маршами. Почему же я тогда умолчал о том, что не хватает сотни грузовиков? Почему умолчал о том, что арторудия грузились с последним эшелоном? Почему не доложил командующему, что к началу прорыва двадцать танков оказались еще на подходе, что по самый день отправки были некомплектные экипажи, что грузился с адресованием не на ближайшую станцию — отдаленность до места сосредоточения двести пятьдесят километров! Что с того, что командующий не вызвал. Черт его знает, почему он не вызвал. А надо было самому ломиться, бить в набат.
— Показывать действительное?
Он очнулся, но, видно, не расслышал моих слов.
— А смерти я не боялся, — с некоторым недоумением повторил он. Порывшись в планшете, он извлек штабной конверт, вынул из него какую-то бумагу, со многими подписями — вкривь и вкось. И снова лицо его странно оскалилось в невеселом смешке. — Бомбы летели. Шесть штук. Аккурат где крест стоял на юру, там фриц похороненный… А я терпеть не могу, что люди не хотят идти вперед… Ну, тут меня рвануло, бросило наземь. И как раз такую воронку вспахало — ничего от креста фрицевского! Меня оглушило немного. Иду, руки расставил. А навстречу мне — нелепость какая! — офицер связи. С праздничной улыбкой! Вручает вот это длиннейшее письмо. Сослуживцы из штаба поздравляют со званием генерал-майора… Нет, ромбы ума не прибавят. Допивай. Я посплю разочек…
Он откинул голову и, как по команде, уснул. Я видел, как шевельнулся его острый кадык — уже во сне он сделал это глотательное движение. Точно маленький. Во сне заскрипели зубы. Во сне какое-то воспоминание приподняло и опустило его худые плечи. Мне было жаль его — упрямого, твердого. В дивизии его не боялись, а уважали, в танковых экипажах я слышал о нем: «Корень! Наш корень».
Странная ночь. Третий час, взошла поздняя луна, и легкие облака ее не закрывают. Когда стоишь, приоткрыв штору, морозное бело-голубое стекло тонко дребезжит оттого, что пролетел самолет и по нему ведут огонь на переправе. А вернешься к столу, освещенному мигающим светом лампочки, — там рядом с чистыми листами бумаги, бутылью рома и недопитым стаканом — журнал «Русская мысль», раскрытый на странице с царским манифестом о рождении великой княжны Ольги… Жарко пылает печка. От нечего делать я поднимаю с пола рукава голощековского комбинезона и складываю у него на коленях. Он даже не шевельнулся. Я листаю старинный журнал и натыкаюсь на чеховскую «Ариадну». А прокурор тоже не спит, ему нельзя — ждет санкции Ставки, я слышу, как, отзвонив по телефону, он препирается с ординарцем.
— Что за система: прикажешь — принесут кофе, не прикажешь — не принесут.
Он второй раз выходит в сени — шинель по-ночному внакидку, полы подхвачены рукой. Спящего Голощекова не замечает. Теперь, в сенях, он донимает адъютанта, слышу обиженный голос балованного мальчишки:
— Зачем нам дают погоны, раз мы, офицеры, так не уважаем друг друга…
— Чего ж не пьете? — Голощеков проснулся неслышно, как будто не спал. Он лениво залезает в рукава комбинезона, удивленно оглядывая все его масляные пятна и подпалины. Идет в сени пить воду — я слышу, как он долбит лед в кадушке. Возвращается с ножницами в руках, разглядывает их со вниманием. Откуда ножницы? Или он ими пробивал лед? Он присаживается боком к столу и по-мастеровому, сгорбясь, финским ножом ввертывает винтик. Как это он заметил, что ножницы разболтались и жизнь их кончается?
— Как ни старайся, жена всегда узнавала, что выпил, — бормочет Голощеков, колдуя над ножницами. — Этого не скроешь. Долго понять не мог, почему она узнавала, а потом догадался: вернусь навеселе — спать, а ночью выйду на кухню воду пить, она и засекает… А это в самом деле колокола звонят?
Он подошел к окну, пытаясь вслушаться в колокольный набат, не умолкавший в его ушах. А может быть, он мысленно провожал своих молодцов? В эту ночь войска на широком фронте преследовали противника и навязывали ему бои. Никто не спал в огромных пространствах, освещенных морозной луной. И головной танк, заляпанный снегом и грязью, с клоками зеленых шинелей на гусеницах, выходил, вылезал на голый бугор под обстрел. Может быть, там находился сейчас Голощеков? Но мне почему-то казалось, что расслабла его мускулатура, что он уже в доме, в комнате, у окна, прикрытого синей шторой. С той минуты, как он пожалел ножницы, я знал — для него начинается самое страшное. Теперь-то он задумается о том, что его ожидает. Я знал, что теперь он будет честным в показаниях, не соврет, хотя ему сейчас быть честным — хуже, чем спиться.
Из сеней адъютант тянул провода в открытую дверь кабинета. Готовился домашний киносеанс, как вчера, как каждую бессонную ночь. Я видел угол проекционного аппарата, а на стене за прокурорским креслом небольшой экран смутно светился неровным квадратом, на нем мелькала тень головы адъютанта.
Шел четвертый час ночи.
Адъютант менял патефонные пластинки — настраивал звукопередачу. Теперь он включил какой-то незнакомый мне блюз и под его мелодию топтался возле меня, вытягивая провод. А в кабинете прокурор, скучая, так же притопывал в такт блюза, не догадываясь, что виден весь в открытую дверь. Танцуя, он подошел к телефону, мне бросились в глаза глубокие вырезы у него под коленками на расшитых красными петухами унтах. Он то и дело снимал трубку телефона, приглашал кого-то посмотреть фильм, переговаривался о смешном случае, когда во время вчерашней бомбежки на неудачника Штейнберга снова свалилась балка. Говорят, что он держал ее на руках, пока не подоспели вестовые. Не везет бедняге с бомбежками.
А потом прокурор одиноко дремал верхом на стуле. Киноаппарат жужжал, лента рвалась. Голощеков писал без полей и яростно черкал и черкал написанное. И скоро я уже не мог прочитать его черновики.
Так, без промедлений, в ту давнюю ночь рейд голощековских танков становился историей.
1968
КОГДА НЕ ПИШЕТСЯ
Есть писатели, которые лучше всего выражают себя в записных книжках. Это совсем не худшие из писателей! Огромная честность обязывает и связывает многих, и они останавливаются перед архитектурным замыслом целого произведения, видя в нем уже насилие над правдой, цепенея в боязни нарушить жизнь. Зато как они выражают душу свою, свою человечность в бесхитростных непосредственных записях!
Читал целый день фронтовые записки Эффенди Капиева. Только небольшая часть их вошла в книгу «Избранное». Уже тогда показалась справедливой запись: «Даже одна честно написанная сегодня строка будет со временем ценнее и прекраснее многих книг». Теперь это целая книга, и трудно решить, что в ней дороже — сама объективная действительность Великой Отечественной войны или взгляд на нее молодого писателя, его мысли о подвиге и мужестве, его дума о народном горе, его мечта о победе…
‹…› Капиев часто обращается к самому себе в этих записях, называя себя — «товарищ Капиев», то шуточно, то с болью, то в минуту смертельной тоски. Этот разговор с самим собой на страницах фронтового дневника как-то сближает его по жанру с другим, с великим документом эпохи, с книгой Юлиуса Фучика. Та же лиро-эпическая интонация, та же искренность, как на исповеди.
И какое множество сюжетов! Почти всегда — в одном-двух абзацах. О танке, который взвалил на себя сарай и несся с ним по деревенской улице. О том, как убитого командира несли в атаку впереди цепи бойцов. О старой бабке, вернувшейся с внучатами домой, — а там пепелище и жилья только скворечник на березе. О детях, везущих в санях мертвую мать. О бойце-горце, который в разведке молча утонул в ледяной воде, голоса не подал, чтобы не выдать товарищей…