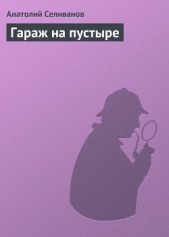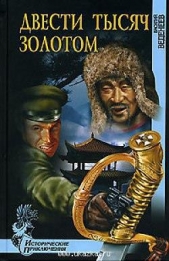Афанасий

Афанасий читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Стой! – вновь заорал он, ужаснувшись тому, что может произойти: на этой подстанции трансформатор размером меньше, ножи рубильника всего на метр выше человека. – Дура! Что делаешь?
Она огрызнулась.
– Молчи! И стой за щитом! Смотри за приборами!
И начала включать и отключать. Карасин видел и метавшуюся стрелку амперметра, и три голубовато-желтых пятна, возникавших там, где ножи рубильника начинали медленно извлекаться из губок, и как только стрелка скакнула и замерла, заорал: “Хватит!” Кабель обесточился, он был пробит так основательно, что теперь спецлаборатория запросто определит место, над которым взметнутся лопаты, роя яму, а кабель разрежут, поставят муфту, и лакокрасочный цех теперь станет работать нормально, выполняя и перевыполняя планы…
Только теперь Овешникова выдохнула:
– Все…
Она пятилась, отходя от рубильника, рукавом протирая глаза, ослепленные сине-оранжевыми искрами… Дошла до Карасина, коснулась спины его – и он обнял ее. Она прижалась к нему, потом вспомнила, что руки – в резиновых перчатках, и он сам стянул их с потных ладоней. Сдернул и берет с головы, уткнул нос в черные волосы. Так и стояли, долго и молча, уже зная, что придется делать им, и хотя сделать это можно было здесь же, оба понимали: нужно продлевать это приближение к неминуемому, на несколько часов отодвинуть неизбежность.
Выйдя из подстанции, они тут же отделились и пошли каждый к себе, как чужие и незнакомые. Афанасий в кабинете набрал номер дачного поселка, предупредил коменданта о скором приезде; не переодевался, успел только схватить кошелек, выметнулся вон; вахтерша в сонной одури даже не глянула на него, как и на Овешникову, которая тоже не стала переодеваться; и ему, и ей казалось, что душ смоет с них нечто организму ценное, а обычная – для улицы и дома – одежда так прилипнет к ним, что нельзя уже будет сбрасывать ее. Разделенные десятью метрами, они углубились в квартал пятиэтажек, чтоб выйти к шоссе и автобусам; здесь наконец-то они взялись за руки, они шли по улице, глядя в разные стороны, она – на стены домов, он – на проезжавшие автобусы. Около 16 часов было, когда они порознь миновали проходную, до электрички – минут пятьдесят, не больше, но почему-то часы их показывали шесть вечера. Им надо было тянуть время, выжигать горючее, как делают это пассажирские лайнеры перед аварийной посадкой; они освобождались: он – от прежних женщин (и
Тани тоже), она забывала о десятках мужчин…
Вагоны электрички переполнены, толпа прижала их в тамбуре друг к другу, они наконец-то обнялись так крепко, что могли сблизиться и губами. Иногда та же толпа выбрасывала их на платформы станций, они возвращались в тамбур; где, на какой станции выходить, Афанасий не знал, потому что к дачному поселку их с Белкиным подвозили на автомашинах. В очередной раз толпа потащила их наружу, но обратно теперь они не вернулись. Так и не расцепив руки, шли они через лес, продолжая молчать, ни единым словом не перекинувшись. Никто не встретился, ни у кого не спросишь, где дачный поселок, но и спрашивать не надо, Афанасия вело чутье. Второй с краю домик, здесь комендант, Афанасий постучал в окно, получил ключ; в домике – ни стола, ни стула, ни кровати, но бoльшего им и не надо было. Кроме
Луны: легли на освещенные ею половицы, голышом; много слов сказано было, но бессодержательных, слова были – как птичье щебетание, без которого летний лес не лес.
Поднял их восход солнца. В домике – ни тряпки, ни кувшина с водой.
Пошли обратной дорогой к электричке, теперь иная толпа ехала, работящая, та, что наполняет цеха и конторы столицы. Стояли, прижавшись друг к другу. От них пахло лесом и болотом, от них разило случкой, что манило к ним людей в толпе, но и отвращало.
– Поезжай домой, – строго сказала она ему на вокзале. – Ты работаешь с высоким напряжением, ты устал, ты должен отдохнуть…
И ничего, со стороны глядя, не изменилось: встречались на заводе редко, телефон соединял их кабинеты с 08.30 до 17.00, но говорили они мало, почти не говорили. В дачный домик по Павелецкому направлению не ездили, Овешникова сняла квартирку на Лесной, что-то приносила с собой, долго стоять у плиты не умела, да и другие желания одолевали: не до еды, не до питья; обнимала Афанасия и не выпускала его из объятий часами, она умела исторгаться без движений мужского тела, она обладала даром внутренних телесных объятий и разъятий, а когда уставала, то осторожно расспрашивала Афанасия о прежних женщинах, о родителях, о том, как попал в тюрьму, как мотали его по лагпунктам. Да все просто – так отвечал; жизнь в неволе разнообразилась полетами фантазий тех, кому наиболее всех скучно было, то есть разным там чинам из лагерного ведомства. За шесть лет много чего повидал, но, пожалуй, самое приятное в том, что так и не увидел он на очных ставках тех, кого ему настоятельно советовали оболгать; ни один офицер в полку не пострадал, а следователям – для собственного утверждения и в карьерных нуждах – так хотелось обвинить их чуть ли не по всем пунктам 58-й.
– А они знают, что ты их спас?
– Наверное… А может быть, и не знают.
– А намекнуть ты им об этом можешь?
– Зачем? Это же опасно – и для меня, и для них.
– Почему? – Она приподнялась: локоть в подушке, ладошка поглаживает лоб Афанасия.
– Потому что они озлобятся, когда узнают, что вынес я все допросы и ни одной фамилии не вписано было в протокол.
– Озлобятся?
– Конечно. Кому хочется знать, что жизнь твоя спасена человеком, которого ты же и оклеветал. Я о себе такого прочитал… И под всеми глупостями и мерзостями – подписи боевых товарищей… Тех, с кем тянул лямку.
– Но не они же обвинили тебя в измене Родине?
– Это в воздухе носилось – измена эта. Все верили, что найдется смельчак, который захочет перебежать на сторону американцев. Война ведь шла, корейцы с корейцами, за одних мы, за других американцы.
Вот я однажды в перерыве офицерской учебы и провел указкой по карте, от полка до Корейского полуострова – вот, мол, каким путем пойдет полк выручать корейцев. А замполит стукнул: лейтенант Карасин замыслил увод полка в Корею и так далее… Не мог не стукнуть: в воздухе, повторяю, носилось.
– А ты бы и сам замполита обвинил в чем-либо. В воздухе, сам говоришь, носилось.
– Носилось-то носилось, да штука такая есть, регулятор исторических процессов, свободная человеческая воля, она равно обязывает и лгать, и говорить правду.
– Ты всех возненавидел?
– А никого. Все же сидели по начальственной дури. Ну, объявили бы по радио и газетами, что все блондины – враги. Или брюнеты. И легче бы стало блондинам или брюнетам.
Рука ее постепенно охладевала, становилась почти ледяной, потом кожа возгоралась, затем жар сменялся холодом… Овешникова раскачивала температуру своего тела, и Афанасий дышал с трудом, борясь с желанием, которому дано было удовлетвориться только тогда, когда
Овешникова разожмет внутренние объятья.
О себе она говорила мало, но и недомолвок хватало для полной картины, и Афанасий жалел не эту, рядом лежавшую женщину, а девчушку-десятиклассницу, осознавшую непригожесть свою, не умевшую так представать перед мужскими глазами, чтоб те неотрывно следили за ее бедрами, руками, поворотами головы; тогда и научила Овешникова свое тело, сцепленное с мужским, тому, чего не найдешь ни в одном пособии по любви в постели. На заводе же пряталась, в спецовку рядясь, волосы, не потерявшие жгучести и пышности, скрывала косынкой и беретом, куртка и юбка – размером больше, чтоб ткань обвисала. В консерватории (она любила Гайдна, Баха, Берлиоза) на нее, с изыском одетую, но с налетом легкой распущенности, оглядывались в фойе; в гардеробе она торопливо совала руки в подставленные рукава пальто, стремительно увлекала Карасина за собой, шли по Герцена, оба улыбались, – так хорошо было им, так приятно!…
Мать, очки опустив и губы поджав, осматривала его, домой возвращавшегося. Она была очень дурного мнения о той, которая так и не станет матерью ее внуков, а уж то, что сын на э т о й не женится, знала точно, и сколько лет э т о й – угадала. Беспощадная материнская проницательность давно уже пугала Афанасия. Сразу после выпуска и на пути к месту службы приехал он домой, не один, с одноклассником, другом всех курсантских лет, и мать, провожая их на вокзале, отвела Афанасия в сторонку и шепнула, что друг-то его – подлец, от друга держись, сынок, подальше!.. Он тогда рассмеялся, а оказалось (прочитал потом у следователя), что мать-то – провидица. О сущей мелочи упомянул друг, они как-то кутили с девицами в привокзальном буфете, долгожданного пива тогда завезли на станцию, с пива Афанасий и провозгласил, из-за стола выбираясь: “Ну, пусть лучше лопнет совесть, чем мочевой пузырь!..” А друг слова понял иначе: “Что касается нравственного облика Афанасия Карасина, то могу с уверенностью сказать: мораль нашу он презирал. Так однажды…”