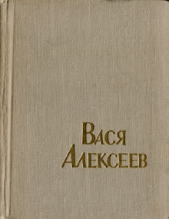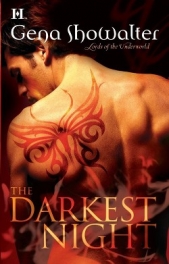Ночь и вся жизнь
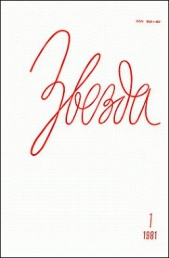
Ночь и вся жизнь читать книгу онлайн
Повесть опубликована в журнале «Звезда» № 1, 1981
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После ухода Сережи в армию, оставшись одни, они с женой стали подумывать о возвращении из эвакуации. Судили-рядили, и Гурилев по совету жены написал в Москву в наркомат старому приятелю Шарыгину, что хотел бы вернуться в освобожденный осенью Донбасс. Написал, почти не надеясь на ответ: не переписывались они прежде. Жив ли Шарыгин? Не на войне ли? Затея отозвалась спустя пять месяцев телеграммой из Киева, приглашавшей приехать для переговоров о трудоустройстве в системе потребкооперации. Рассудили с женой, что он едет, устроится на работу, решит вопрос с жильем, а там и ей вышлет вызов.
В освобожденном три месяца назад Киеве ему сказали: «Люди нам очень нужны. Куда бы вы хотели?» Гурилев хотел, конечно, в Сталино, но ему уклончиво сказали: «Мы имели в виду другое. Вот, выбирайте, есть три города. Все одинаково пострадали. С жильем, сами понимаете… Но надеемся, жизнь наладится… В каждом из этих городов нам нужны бухгалтера».
Он выбрал старый город, бывал в нем до войны, помнил невысокие, по-южному побеленные дома за палисадниками, красивый парк, плотно мощенные улицы с акациями, на окраине большое озеро с деревянными купальнями.
«Езжайте, мы сообщим туда о вас. Явитесь в облисполком к товарищу Калиниченко», — сказали ему.
Из Киева он добирался шесть суток. Приехав, был потрясен разрушениями. Товарищ Калиниченко оказался женщиной. Немолодая, в расстегнутой телогрейке, она сидела спиной к растрескавшейся голландской печи; из-за плохой тяги из щелей просачивался дымок, стоял горьковатый чад, хотя вьюшка была открыта полностью. Посмотрев бумаги Гурилева, Калиниченко смущенно сказала: «Вы уж извините, произошло недоразумение. Пока вы к нам добирались, вернулся наш прежний главбух. Из госпиталя, без ноги… Но вы не волнуйтесь, вы нам очень нужны, найдем хорошее место, сейчас вакансий много», — вздохнула она. «Что же мне делать?» — стараясь скрыть растерянность, спросил Гурилев. «Вы смогли бы нам помочь. Вчера полностью освобождена наша область. А сегодня уже пришла телеграмма, что к нам перегоняют с востока большое количество скота. У нас ведь раньше было сильное животноводство… Срочно нужны корма — весна. Особенно плохо у нас с кадрами в Бортняково. Это самый дальний район. В прифронтовой полосе. В райисполкоме там есть товарищ Маринич. Помогите ему… Самим им там не осилить. Учет, финансовые операции, расчеты с населением. Очень прошу вас… Временно, конечно. К вашему возвращению подыщем подходящую службу, что-нибудь с жильем придумаем… У вас семья большая?» — «Я и жена», — ответил Гурилев, обескураженный таким поворотом. И тут же суеверно встревожился, что не назвал в составе семьи Сережу, ушедшего в армию…
Выбора не было. Гурилев вынужденно согласился. Упоминать о своей хромоте было не к месту… Затем дал уговорить себя и в Бортнякове, согласившись поехать сюда, в Рубежное, с Анциферовым, уступив его напору, жесткой, как бы парализовавшей воле, не допускавшей никаких сомнений или обсуждений.
Глядя, как Вельтман ковыряется носком сапога в каких-то смерзшихся железках, Гурилев осознавал между тем, что исподволь возникавшие в его душе за истекшие сутки возражения и несогласие с Анциферовым натыкались всякий раз на неуязвимую правоту слов Анциферова, в которые тот облекал чуждую ему, Гурилеву, суть. И раздражала собственная беспомощность, невозможность обосновать свое несогласие, поскольку это можно было сделать лишь в обстоятельном разговоре, тогда как Анциферову на все доказательства хватало минуты и нескольких лаконичных общеупотребимых формул, бывших нынче в ходу и в большой цене…
Он не заметил, как рядом присел Вельтман, положив на колени автомат и опершись о него локтями, как о деревяшку.
— Устали? — спросил Вельтман.
— Ногу натер.
— Я где-то вычитал, что до Наполеона солдаты носили одинаковую обувь: башмаки не делились на правый и левый. То-то было удобство!
— Вы думаете?
— Конечно! Все в равном положении. А сейчас, бывает, наденет человек правый штиблет на левую ногу, мучается, но делает вид, что все в порядке.
— Вы это в каком смысле?
— Больше в переносном… Вы довольны?
— Чем? — не понял Гурилев.
— Сегодняшним днем. Успели что-то?
— В известной мере.
— Все-таки вы ищете нюансы, просто «да» или «нет» вас не устраивает? — усмехнулся Вельтман.
— А вы? — задело Гурилева.
— Война требует однозначности и императивности… Привык. А в общем все условно… Все применительно к чему-то… Вы видите вогнутое там, где кто-то видит выпуклое. В одном и том же предмете. Вот и все.
— Удобно, утешительно. Но иногда опасно… Почему вы не поехали в лесничество?
— Не на чем. Отдай жену дяде… Завтра Володя Семерикин обещал сани и кобылку достать… А чего вы ждете? Конец дня, вряд ли кто-нибудь еще привезет. Да и нечего, наверное, им везти уже…
— Анциферов должен вернуться сюда.
— Разве что… Пойду я, — встал Вельтман. — Не обидитесь, что покину? Надо подумать о ночлеге. Нине скажите, чтоб шла к Семерикину. Он будет знать, где я.
Гурилев поднял лицо, встретился с ним взглядом. Вельтман понял.
— Не надо обо мне дурно думать, — сказал он. — Разве ваша жена понравилась вам заочно, и лишь потом, спустя месяц или сколько там, когда вы увидели ее, вы пришли к чему-то более определенному? Всему предшествует реальное начало. А какое?.. У жизни много вариантов. И все они однажды повторяются. Часто со счастливым исходом.
— Я вас понимаю… Простите.
Повесив автомат через плечо вниз стволом, Вельтман ушел.
«Я, наверное, просто стар, — подумал Гурилев, глядя ему вслед, — И моралист».
Ему не хотелось вставать, вообще двигаться, знать, который час, чтобы время, которое предстояло пробыть здесь в ожидании Анциферова, не тянулось так медленно. Внизу, над горизонтом, темнеющее небо чуть светилось зеленой полоской…
Он не сразу увидел, как из сумерек выделилась фигурка, перемещавшаяся по снегу, умятому с утра санным полозом, а когда она приблизилась, узнал Лизу. Поднялся. Лиза остановилась перед ним, бросила взгляд за его плечо.
— Мама велела, чтоб ужинать вы шли к нам, — бесстрастно сказала она.
— Хорошо… Спасибо… Но мне еще тут побыть придется.
Лиза продолжала стоять. Была она в старом коротковатом демисезонном пальто, толстый платок почти скрывал лицо, глаза смотрели ожидающе, недоверчиво, готовые зажечься гневным отпором. И было что-то жалкое в ней, но не от худобы или невзрачности, а от детских ботиночек и толстых чулок в рубчик, какие носили школьницы.
— Вы еще что-то хотите сказать, Лиза?
— А что я вам должна сказать? — пожала она плечами, но не двигалась с места, снова глянула мимо него, куда-то за спину, в пролом стены.
Это ее молчаливое стояние смущало Гурилева, будто она ждала от него какого-то извинения за незаконно присвоенную им тайну ее.
Ни слова не сказав больше, она повернулась и ушла — видение, возникшее из сумерек и исчезнувшее в них…
Было уже совсем темно, когда он услышал ворчание мотора, где-то вдруг забуравившего тишину. Он не сразу угадал, в какой стороне звук, и, лишь заметив свет фар, стал нетерпеливо следить за их приближением.
Когда подъехали, из кабины вышел только Анциферов. Нина, не глуша мотора, осталась за баранкой.
— Ну как? — спросил Гурилев.
— Были в Гуртовом и в Липники успели. Взял отрубей немного, макухи и шесть тюков сена. — Анциферов довольно потер озябшие руки. — Вот сдача и корешки квитанций. Пересчитайте деньги… Что у вас?
— Больше ничего не было.
— Плохо… Вот стервецы!.. Завтра смотаюсь в Криницу и в Борщево. Там немецкие обозники сено сбросили, когда убегали. В старой силосной яме. Я его по стебельку, если придется, заставлю вытянуть. Машину надо использовать…
Они сгрузили все в подвал; опустив крышку люка, Анциферов топнул по ней ногой.
— Замерзли, ожидаючи? — спросил он. — Садитесь в кабину.
Как и с утра, он был полон энергии. Снедаемый одной, понятной Гурилеву заботой, он не желал допускать ни в действия, ни в слова ничего, что не имело отношения к тому, ради чего он приехал сюда. Даже себя, замерзшего, уставшего, голодного, он, казалось Гурилеву, отстранял от себя же — непреклонного, подвижного, понимавшего все и видевшего все дальше и глубже других, отстранял как унижавшую возможную помеху.