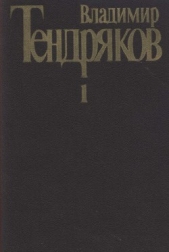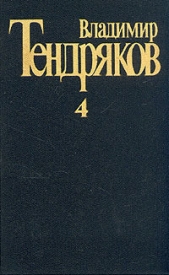Собрание сочинений. Том 4. Повести

Собрание сочинений. Том 4. Повести читать книгу онлайн
В настоящий том вошли произведения, написанные В. Тендряковым в 1968–1974 годах. Среди них известные повести «Кончина», «Ночь после выпуска», «Три мешка сорной пшеницы», «Апостольская командировка», «Весенние перевертыши».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Никому из них я не докажу, что Густерин еще не убил во мне бога.
И сказка все еще живет во мне. Вижу берег моря Галилейского, развешенные сети, рыбачьи барки… Его берег, его учеников.
Сказка-то живет, но сам-то я, кажется, выпрыгнул из сказки. Мне теперь, право, стыдно, что я играл в Христа, Михея Руля сравнивал с апостолом Петром, Гришу Постнова с Савлом, а Митьку Гусака — надо же! — с Иудой…
Сказочный Христос в последние дни вызывает у меня подозрения. «Блаженны нищие духом…» — поп Володька это приемлет, а меня оскорбляет. А птицы небесные, которые не сеют, не жнут, сыты бывают?.. «Не заботьтесь о завтрем; завтрашний день позаботится сам о себе».
Но даже скудоумная мышь, когда лезет из норы, имеет про себя заботу наперед — наскочить на оброненную корку, поживиться ею, и не сию минуту, но в самом что ни на есть ближайшем будущем. Не будь у мыши этой способности заботиться наперед, желать чего-то в будущем, она не жилец на свете. Отсутствие желаний — бездеятельность, бездеятельность — это смерть.
И птицы небесные полны забот о будущем, бесхитростных забот о куцем будущем. Надо искать корм, чтоб насытиться, надо сегодня высиживать яйца, чтоб завтра появились птенцы и данный вид птиц небесных не вывелся на земле.
Человек — самое дальновидное существо на планете, распространяет свои заботы не только на завтра, а заглядывает через года, а порой через столетия. Человек не просто деятелен, он сверхдеятелен. Деятельность же требует расхода сил, приносит утомление. Удивительно ли, что мы часто испытываем усталость не столько физическую сколько духовную.
«Не заботьтесь о завтрем; завтрашний день позаботится сам о себе». И можно избежать досадной усталости, не исключено, можно впасть даже в полное блаженство, но тогда человек начнет деградировать.
Густерин не убил во мне бога, я сумел его спасти, словно знамя после поражения. Но что-то мой бог потускнел, украшавшие сказки свалились с него. Бог — сам по себе, сказки — сами по себе, и я теперь смутно вижу его. Знамя ли вынес я из боя, не древко ли?
Мне надо идти на работу. И неохота… Неохота встречаться с теми, кого я собирался учить, уже распределял им роли по сказке.
Учить… Да я же сам с собой не разберусь!
А тут еще Тепляков. «Исчезни! — совет с угрозой. — В следующий раз я пожалую уже не с советами».
Мне трудно, люди! Я ждал от вас внимания, ждал сочувствия, что скрывать, ждал даже благодарности и восхищения. Теперь не жду.
Мне трудно, люди! Не прошу от вас уже многого: лишь не трогайте меня, не гоните, оставьте в покое, дайте разобраться с собой наедине!
Надо на работу. Надо. Обязан. Я влез в рваные штаны, натянул резиновые бахилы.
На стройке у нас произошла заминка — каменщики не явились. Я с Митькой Гусаком натаскал с реки на носилках кучу песка для будущих растворов. Пугачев не нашел, чем нас еще занять, отпустил:
— Топайте по домам, чтобы здесь не курортничать.
Я давно уже хотел купить себе рабочие брюки. Штаны, подаренные Пугачевым, катастрофически расползлись. С ощущением невеселой праздности я шагал к центру села, к магазину.
Красноглинка, исхоженная уже вдоль и поперек… Тесовые крыши, получившие под дождями и ветрами закалку до сталистого цвета. Благородный цвет, не один век уже сводящий с ума русских художников. И под сталистыми крышами оконца с белыми наличниками, внюхивающиеся в черемуховые кусты. И травянистые просторные улочки, и тропинки, тропинки по ним. Тропинки здесь, в Красноглинке, особые, с игрой, с лукавством, словно их протаптывали люди после веселых праздников, не слишком трезвые, не слишком хорошо справляющиеся со своими ногами. Зеленая Красноглинка вся исхожена с переплясом. И время от времени в ней раздаются воинственные вопли несмазанного колодезного ворота. И черт возьми, когда же я успел полюбить Красноглинку? И каждую курицу на дороге я уже, кажется, «знаю в лицо». Красноглинка знакомая, Красноглинка близкая и… чужая.
Баба с ведрами, встретившаяся на пути, говорит мне «здравствуйте» не потому, что признает меня своим. Со своим бы она перекинулась не одним словом, для своего у нее бы нашелся вопрос: «Куды, гулена, лыжи востришь?» Или шуточка: «Форсист ты, парень, штанцы, гляжу, больно нарядны». Или же какая-нибудь нехитрая просьба: «Скажи Дуське, пусть пилу принесет». В Красноглинке все соседи, все близкие, жизнь столь тесно переплетена, что при встрече всегда найдется сказать что-то такое, которое не укладывается в одно слово. Даже молчание означает намного больше дежурного «здравствуйте»; встретил да промолчал — неспроста, значит, сердит, знать не хочет, обиду показывает. А «здравствуйте» это — замечаем тебя, человек, нет при виде тебя ни радости, ни горя, иди себе мимо. «Здравствуйте» здесь приветствие для чужих.
А ведь я живу тут третью неделю, не скрываю, что хочу жить вечно, но приезжий, лишний…
Как-то в работах известного психиатра Бехтерева я прочитал, что личность никогда не исчезает бесследно, даже после смерти. Живи в Москве — я, наверное, оставлял бы более ощутимые следы своего «Я» и в дочери, и в Инге, и в товарищах, даже если бы я продолжал прятать свое, жил в нелегальщине. Здесь все нараспашку: предлагаю — глядите, что творится во мне. Приглядываются, и даже с любопытством, даже с досадой, но и любопытство, и досада — чувства, быстро проходящие. Исчезни я сегодня из Красноглинки, завтра, быть может, еще и вспомнят — был-де такой, послезавтра забудут.
Прав Бехтерев: личность не исчезает, а анекдот — да. Я анекдот для Красноглинки.
Центр села — травянистая площадь от магазина до клуба, от чайной до колхозной конторы (сельсовета тож) — все в тех же послеименинных тропинках. Площадь с фанерной трибункой для празднования Первого мая и Октябрьской революции. Грузовик у чайной, две козы под клубной афишей, куры и я, странный человек в истасканных до лохмотьев, латаных и перелатанных штанах, в грязных резиновых сапогах-бахилах, в теплой кепке, с обгоревшей, давно утратившей интеллектуальный лоск физиономией. Странный человек — завезенный из столицы случайный анекдот. Как мне одиноко здесь, в зеленой Красноглинке! Соглашаюсь с Бехтеревым, вместе с ним признаю духовное бессмертие каждого из людей, а сам не смею рассчитывать на это.
На стене клуба, вызывающе громоздкого здания с игривым крылечком и плакатом «Добро пожаловать!», наклеена большая афиша.
Любопытно. Нет, не лекция сама по себе. Крайне любопытно — случайно это мероприятие или оно как-то связано с моей особой? Пять дней назад мной заинтересовался Ушатков, за пять дней заполучить лектора, и не районного, а специального, из области, — верх оперативности. Лекторы не пожарники, по тревоге сломя голову не срываются. Случайность?.. Но что-то слишком удачная для Ушаткова. И этот утренний визит участкового Теплякова: «Уезжай подобру-поздорову». Тепляков не скрывал, что Ушатков что-то предпринимает и его мне следует бояться. Что бы все это значило?
В магазине прохлада, полутьма, благородный блеск выставленных на продажу радиоприемников, запахи кожзаменителей. Если на улице только козы у клуба, то здесь легкая толкучка — идет бойкая торговля темно-синими твердыми фуражками. Какая-то бабушка — не из самой Красноглинки, захожая из окраинной деревеньки — купила сразу пять одинаковых фуражек, укладывает их в корзинку.
— Что, бабка, много набрала? — интересовались со стороны.
— Лишнего не взяла, на каждый картузик голова припасена, соколики. Двое внуков подросли, форсить надо? А зятю надо? А старик так ходи? Старику тоже плешь прикрыть новеньким любо. И еще племяш есть, под Костромой живет. Может, ему и негоже, но все подарок.


![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/49841/49841.jpg)