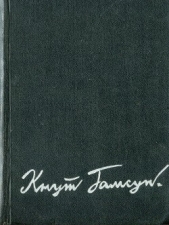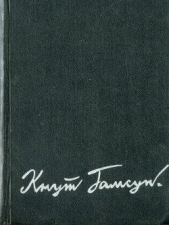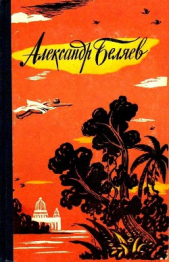Избранные произведения в трех томах. Том 3

Избранные произведения в трех томах. Том 3 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Горбачев за последние месяцы перед болезнью прочел немало выступлений зарубежных ревизионистов о том, что Октябрьская революция не была исторической необходимостью, а явилась насилием над историей, о том, что коммунистические партии не способны, в частности, осуществлять руководство литературой и искусством, что литературой и искусством вообще руководить нельзя, — они поле проявления творческих порывов, они требуют абсолютной свободы для художника и тому подобное. Даже диктатура пролетариата — и она ставилась под сомнение в таких писаниях.
Читать об этом было дико, ведь прошло тридцать девять лет советской власти, огромные успехи страны социализма сами по себе свидетельствовали о правильности руководства коммунистической партии. Он начинал теперь отчетливо сознавать, что совершал ошибку, недостаточно зорко различая буржуазное влияние, которое под всевозможными одеждами проникало через рубежи и находило почву для существования у каких–то людей из среды интеллигенции: эти люди вторили зарубежным писаниям.
Только бы поскорее встать, только бы подняться, — он соберет городской партийный актив, он тряхнет стариной. Ведь когда–то как горячо, пламенно выступал он в красноармейских частях и на заводских митингах… Революция продолжается. Надо быть революционером, действовать революционно, то есть до предела принципиально, соизмерять все свои действия с их полезностью и необходимостью для дела рабочих и крестьян.
Горбачев считал дни до своего выздоровления. Но их еще было очень и очень много.
Анна Николаевна и Капа, приходившие к нему читать в будние дни, ни в какие разговоры не вступали: «Врачи не разрешают». Он подшучивал над ними, интересовался, отчего это они стали вдруг такие дисциплинированные. Но родные на шутки не отвечали. Для разговоров был отведен один час в воскресенье — с пяти и до шести вечера. Горбачев тогда спрашивал о том, как дела дома, — ему очень хотелось домой, — о том, что делается у Капы и у Андрея. Он говорил Капе: «Скоро?» Она понимала, о чем он. «Скоро, папочка, уже скоро». — «Боишься?» — «Кажется, нет». Он ждал этого потомка с нетерпением. Ему очень хотелось, чтобы это был мальчишка, непременно мальчишка — внук. Когда–нибудь Горбачев выйдет в отставку, на пенсию, и тогда они вдвоем с этим карапузом будут гулять в садах — старый и малый, дедушка и внучек. Но, пожалуй, внучек успеет уже своих детей завести к тому времени, когда дедушка уйдет в отставку. Любой из них, партийных сотоварищей Горбачева, тянет до тех пор, пока не упадет.
Побывали в больнице почти все Ершовы. С Дмитрием был интересный разговор. Оказывается, Дмитрий тоже усиленно читает Ленина.
— Дело в том, Иван Яковлевич, что некоторые Ильича вкривь и вкось стали толковать. Даже в журналах и газетах кое–что такое появилось, из чего можно бы вывод сделать, что Ленин уж до того добряк — мухи не обидит, такой непротивленец злу и попуститель анархии, что дальше некуда. А ведь железный человек был Ильич, когда дело касалось революции. Верно?
— Верно, Дмитрий Тимофеевич, совершенно верно.
— У него не пошалишь, не поозоруешь с таким делом. Он так тебя пригвоздит к стенке, что ни «а», ни «б» не выговоришь. А иначе и нельзя. Что нам заигрывать с тем, кто все равно на тебя ножик точит? Заигрываешь с противником — только своих друзей с толку сбиваешь. Уж все должно быть ясно, четко и определенно.
— Правильно, — согласился Горбачев. — Но и дуги гнуть умение надо, как сказал наш великий баснописец Иван Андреевич Крылов.
— Знаю, еще в школе учили, — ответил Дмитрий и прочитал басню почти без ошибок.
— У вас отличная память, Дмитрий Тимофеевич,
— Не жалуюсь. Что надо, все помню.
Зима шла плохая, морозов почти не было, с моря плыли туманы, хлюпало, капало, люди хворали гриппом, сморкались и кашляли и с нетерпением ждали весны. Одним из пасмурных февральских воскресений Горбачев долго не отпускал от себя Анну Николаевну с Капой. Ныло в суставах, ныло в сердце, было тоскливо и зябко.
— Посидите еще, — упрашивал он. — Ну десяток минут. Или пять хотя бы. Успеете домой. — Он принялся рассказывать им про детство, про то, как лазал через забор за яблоками и хозяин сада поймал его и отстегал крапивой. — С тех пор я прекрасно помню, что чужие яблоки трогать не следует. Крапива очень хорошее средство для воспитания здоровой морали.
И Анна Николаевна и Капа, конечно, не раз уже слышали об этих похождениях отцова детства, но они с готовностью и искренне посмеялись над историей с крапивой и все–таки ушли, как он ни просил их побыть с ним еще.
Нет, думал он, болеть — это самое последнее дело. Только бы встать на ноги, он заведет себе совсем другой режим жизни. Он будет закалять здоровье и укреплять сердце, чтобы ничто подобное не повторилось. Будет делать зарядку по утрам, непременно ходить пешком хотя бы пять–шесть километров в день, купаться, ездить на рыбную ловлю и на охоту. Столько интересного есть в жизни; надо пользоваться этим интересным, нельзя откладывать все на потом, на потом, ведь может случиться, что этого «потом» никогда и не будет. Только бы встать, всю жизнь перекрою по–другому.
К нему в палату, приоткрыв дверь и спросив: «Не спите, Иван Яковлевич? К вам можно?» — зашел сосед, директор научно–исследовательского института, доктор наук, толстый веселый человек, только что перенесший второй инфаркт. Ходить он начал несколько дней назад и ходил непрерывно.
— Ноги начинают становиться ногами, — сказал он, — боль уменьшилась. А то, поверите ли, прямо как ножами резало их, ступить не было возможности. Атрофия мышц, не мышцы были, а мешочки кожи. Горький сказал: «Человек — это звучит гордо». Я бы добавил: здоровый человек звучит гордо. А больной!.. — Он махнул рукою, присаживаясь на стул возле постели Горбачева. — Больной — существо жалкое. Особенно вот такой, на манер нас с вами, инфарктник. От нянек зависим, что грудные младенцы. Я, знаете, Иван Яковлевич, когда еще с первым инфарктом лежал, клятвы себе давал самые страшные, что только бы мне встать, всю жизнь по–другому перестрою. Закаляться буду, гимнастику делать, пешком ходить. Рыбалка, охота… Наполеоновские намерения. А вернулся на работу — и опять завертелась мельница повседневной текучки. Мы что — ненормальные, что ли, все–то дела хотим переделать на свете? И ведь никто тебя не подгоняет, не подхлестывает. Сам узду закусишь и летишь.
Горбачев удивился, насколько то, что говорил сосед, точно совпадало с тем, о чем минуту назад думал он сам. А сосед поговорил, поговорил и пошел дальше, ему не сиделось, он спешил развивать мышцы.
За темными окнами завывал ветер, сотрясал стекла и с грохотом прохаживался по крышам; с крыш, звеня, летели на тротуар сосульки. Шумело море. Горбачев представлял себе, что там творится сейчас во мраке. Прибрежные льды изломаны, искрошены, лезут на берег, подхлестываемые студеными валами.
— Барометр скачет, — сказала сестра, принесшая лекарство на ночь. — В такую ночь гипертоникам тяжело. Выпейте, Иван Яковлевич, да на сегодня ваши процедуры и закончатся. Спите спокойно, может быть, завтра солнышко будет, все повеселей. После шторма всегда солнышко бывает. Спокойной ночи.
Не спалось в эту трудную штормовую ночь. Все, что только было в жизни неприятного, вспоминалось вновь и вновь. Вспомнилось и злобное, отвратительное заявление Крутилича. Горбачев так и не дочитал его до конца. Там оставались, кажется, еще пять или шесть страниц. Даже трудно себе представить, что еще мог напихать в них этот страшный человек. Для таких радость — доставить другому горе. И ничего с ними не сделаешь…
Горбачев стал перебирать в памяти все, что он прочел тогда в письме Крутилича, и вдруг ощутил в сердце такое же холодное сжатие, как тогда; в голову ударила кровь, зашумело в ушах. Протянул руку, чтобы прижать кнопку звонка и вызвать сестру или врача, но удержался: может быть, ничего и нет, может, простое волнение. Затем неожиданно пришла мысль, что вот так, в какую–то ночную минуту, он может и умереть, не увидев больше никогда ни верную свою, всего натерпевшуюся в жизни подругу Аннушку, ни Капитолину, ни сыновей и вообще никого, никого… Придут утром, а его уже нет.