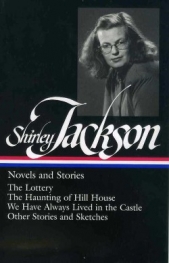Ивушка неплакучая

Ивушка неплакучая читать книгу онлайн
Роман известного русского советского писателя Михаила Алексеева "Ивушка Неплакучая", удостоенный Государственной премии СССР, рассказывает о красоте и подвиге русской женщины, на долю которой выпали и любовь, и горе, и тяжелые испытания, о драматических человеческих судьбах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С этим письмом старики снарядили к Соловьевой дядю Колю, которому, однако, с величайшим трудом удалось уговорить строптивую вернуться с сыном в ее же, в сущности, дом.
Трудно сказать, отчего: переволновался ли, пробил ли его час (смерть, как известно, причину найдет), но, придя к себе домой, дядя Коля почувствовал недомогание. Не придал ему особого значения, потому как в его летах такое недомогание было обычным и посещало его чуть ли не каждый день. Прилег на кровать, попросил старуху поставить самовар, прикрыл глаза, надеясь вздремнуть немного, но оказалось, что прикрыл их навеки. Теперь на завидовских могилках объявился свежий холмик, над црторым возвышалась фанерная красная пирамидка, а рядом с нею стоял высокий черный дубовый крест. На пирамидке была надпись: «Николай Ермилович Крутояров, революционный матрос». Чуть ниже чья-то неумелая рука прибавила: «Дядя Коля». На кресте же значилось: «Здесь покоица тело раба божья Николай Ермилыча Крутоярова». Пирамида была поставлена комсомольцами, руководила ее сооружением Настя Шпич, а сколачивал памятник Павел Угрюмов. Крест по слезной просьбе бабушки Орины воздвиг Максим Паклёников, помогали ему Тишка и Пишка, люди хоть и не очень набожные, но правильно рассудившие, что волю пожилой женщины надобно уважить. Дуб для креста выбрал и спилил сам Архип Архипович Колымага, сам же обтесал его, обделал, как надо, и привез во двор покойного, и потому, надо полагать, занял самое почетное место на поминках. Завидово не оделось в траур, но как-то пригорюнилось, притихло, несколько дней его жители разговаривали меж собой как бы шепотом: может быть, еще и потому, что тремя днями позже положили рядом с дядей Колей и его подружку, бабушку Орину: не захотела, старая, «коптить небеса» без Николая Ёрмилыча, тошнехонько ей стало, а потому и решила поскорее присоединиться к нему. А потом жизнь Завидова пошла своим порядком, время от времени удивляя людей разными историями.
Степанида Луговая, например, была крайне удивлена тем, что, выйдя однажды поутру на крыльцо, вновь увидела сверток. На этот раз не обрадовалась — испугалась: довольно с нее и одного подкидыша. Однако наклонилась, развязала и ахнула: перед ней лежал полный набор детской одежи и обувки размером как раз на ее Гриньку. Догадавшись, откуда могло взяться это добро, она вспомнила, что как-то прибежал ее Гринька домой и, заикаясь от волнения, рассказал матери про то, как некая женщина («Не наша, мам, не завидовская!») поймала его за рекой, прижала к груди и насовала полный карман конфет. Гринька сообщил под конец, что «тетенька очень, очень плакала» и чуть было не задушила его в своих объятиях, но он вырвался и убежал от пее, а «тетенька, — Минька говорил, — скрылась в лесу». До этого Степанида не очень-то верила Штопалихе, уверявшей, что трижды видела на огороде Луговой, за плетнем, незнакомую женщину, которая, присев на корточки, следила за Гринькой и Минькой, игравшими во дворе в козны.
— Гляди, Стеша, как бы не увела твово подкидыша. Не иначе как матерь настоящая объявилась! — предупреждала Матрена Дивеевна.
— Будя болтать-то, Дивеевна! — сердилась Степанида. — Я настоящая-то мать моему Гриньке!
— Оно так, Степанида, — соглашалась Штопалиха, но все-таки советовала: — Поосторожней, однако, будь. Не пускай в лес парнишку. Береженого-то и бог бережет. А то как бы беды не нажить.
Теперь и Штопалихино предупреждение обрело вес. Раздумывая над тем, как поступить ей с подкинутой ребячьей справой, Степанида пошла за советом к Фене, решив про себя: «Как та скажет, так и сделаю». Но Феня затруднилась с советом: дело-то уж очень необычное. Зато Мария Соловьева, с которой тоже поделилась своей новостью Луговая, заявила без всяких колебаний: «Одевай и обувай Гриньку, чего уж там! Ты на него больше истратилась, вон в какие годы взяла на руки!» Перебрав приданое, Степанида обнаружила, что в сверти ке два комплекта совершенно одинаковых и по размеру, и по расцветке штапишек, рубашонок, трусиков и ботинок, и, не согласуясь с Машей, нарядила не только своего сына в обновку, но и его дружка Миньку; теперь они уж были форменные близнецы, такими и пришли в школу, потому что обоим исполнилось по восьми лет. И у обоих были материны фамилии: в графе, где полагалось указывать имя отца, учительница, поколебавшись, помедлив, погрустнев лицом, вспомнив что-то свое, наверное, тоже неустроенное, кончиком пера сделала прочерк. Затем подняла лицо, глянула на вытянувшихся, как маленькие солдатики, ребятишек, поласкала их глазами, сказала как можно бодрее:
— Завтра приходите в школу. Будем учиться. Хорошо?
— Хорошо, Марья Кирилловна! — хором и звонко прокричали Минька и Гринька.
Ребята подрастали. Росла, однако, и тревога Степаниды: всякое лето, почти в одно и то же время, в Завидовских лесах объявлялась та женщина и скрывалась там до тех пор, пока ей не удавалось проникнуть в село и что-нибудь оставить на крыльце или во дворе Луговой для Гриньки. Дважды видел ее на полянах и просеках Архип Архипович Колымага, дважды пытался остановить и поговорить, выяснить, кто она и зачем прячется от людей, но женщина дикою козой ныряла в чащобу, и до чуткого уха лесника доносился лишь угасающий треск сучьев. В третий раз он все-таки подстерег, изловил «таинственную незнакомку» — иначе какой же он был бы лесник! — и, рыдающую, кусающую его руки, вывел на дорогу, усадил на одну из скамеек, понастроенных им для отдыха пожилых людей, которым вздумалось бы поразмять старые свои члены и подышать лесным воздухом. Не скоро удалось мужику, имеющему столь грозное, даже, пожалуй, свирепое, обличье, успокоить свою пленницу, убедить ее, что он не замышляет ничего худого против нее, что, наоборот, готов помочь ей, коль она нуждается в людской помощи.
— Эко ты, право слово!.. Аль я разбойник какой! — басил Колымага, изо всех сил стараясь придать своему голосу добрые, располагающие интонации. — Перестань реветь, говорю! Не трону я тебя. Не видишь разве, кто я есть? Я есть здешний лесник. Зовут меня Архип. И по отечеству Архипыч. А ты не порубщица, деревьев моих не трогаешь — стало-ть, бояться тебе нечего! Сказывай, откудова ты и для каких надобностей тут объявилась, какая, стало-ть, нужда лукнула тебя сюда…
Первую минуту слова его как бы летели мимо ее ушей, не задевали женщину. Она продолжала плакать, но уже не вырывалась из его рук, не сдвинулась с места и тогда, когда лесник разомкнул свои железные пальцы; плечи ее вздрагивали уже меньше, а потом и вовсе угомонились, опустились и стали вдруг девичьи узкими и беспомощными. Несколько раз еще прерывисто, как успокаивающийся постепенно ребенок, вздохнув, она впервые решилась взглянуть на лесника. Посмотрела долгим, задержавшимся на его лице взглядом. Призналась:
— А я вас знаю, Архип Архипович.
— Вот как! Откуда же тебе меня знать?
— Я ведь, дядя Архип, из Кологривовки, а вы там бывали часто, даже к нам не раз заходили. Помните, мой папанька… — Она назвала имя своего отца, которого не мог не знать старый лесник.
— Еще б не помнить! — всколыхнулся Колымага. — Мы с твоим папанькой не одну четверть усидели и в вашей Кологривовке, и в других разных местах. Известное дело: свинья грязи найдет. Он, твой батюшка, как и я, грешник, охочий был до этого самого… Помню, помню, как же! Да и тебя, кажись, вот толечко сейчас признал… Ну, ну, не разводи мокреть, не плачь — опять за свое! Ты, кажись, единственная у него дочка была? Да будя реветь-то! — Колымага упрятал ее голову в своей грубой, шершавой лапище и, как шваброй, досуха вытер заплаканное лицо. — Единственная, спрашиваю, аль были еще сестреп-ки-братишки?
— Единственная, — сказала женщина, вновь успокаиваясь. — Папанька погиб под Ростовом еще в сорок первом, а маму — вы, наверное, помните ее, дядя Архип? — в войну же мирской бык забодал на коровнике, мама дояркой была. Я осталась одна. А потом встретила… — тут женщина остановилась, ибо не собралась еще с духом, чтобы рассказать о том, что в конце концов привело ее сюда, в этот вот лес, к порогу чужого дома, где, ничегошеньки не зная и ни о чем не ведая, рос ее сын. Она увидела его будущего отца-красноармейца в родном своем селе и, как бабочка на огонек, глупая и неосторожная, подлетела доверчиво, запорхала, затрепетала не окрепшими еще крылышками вокруг его сильного тела, хранившего устойчивые запахи окопного жителя, — мудрено ли было обжечь, опалить те крылышки! Он приехал в Коло-гривовку, в тихое селеньице, вытянувшееся цепочкою изб по-над речкой Баландой, на отдых, для окончательной поправки, из саратовского военного госпиталя, никому не известный в здешних краях солдат с медалью «За отвагу» на линялой гимнастерке. Девчонка прильнула к нему на один какой-то сладкий миг — всего-то одну ночушку были они вместе под ее сиротской крышей. На другой день он уехал, в нем еще нуждалась катившаяся к последним своим рубежам война, которая подбирала всех выздоравливающих по своим глубоким и ближним тылам, подбирала и возвращала на боевые позиции. Она ждала его писем, а их не было. Так ждала, что ни о чем другом не могла ни думать, ни помнить, а потому, наверное, пропустила все сроки, когда можно было еще избавиться от плода этой короткой, как мгновение, и жгучей, как удар тока, любви. А когда вспомнила, уже было поздно, дитя давало о себе знать мощными резкими толчками. Теперь все усилия его несчастной матери были направлены на то, чтобы ни-одна из ее подруг, чтобы вообще никто в Кологривовке не мог заметить ее состояния, — перед тем, как выйти из дому, туго перетягивала живот платком, при встречах с людьми на улице подбиралась так, что аж краснела от натуги, дыхание ее сбивалось, на вопросы встречного отвечала невпопад и старалась быстро пройти мимо. Постоянный самоконтроль, напряжение изнуряли ее страшно, и она очень удивилась, когда ребенок родился вполне нормальный, здоровый; втайне она все-таки надеялась, что получится выкидыш. Помогла ей при родах одна знакомая бабка-повитуха, славившаяся на селе не столько своим умением принимать ребенка, сколько тем, что была на редкость неболтлива. Она же и посоветовала юной матери подкипуть младепца Степаниде, поскольку была наслышана о беде этой последней и знала наперед, что мальчонка будет ей не в тягость, а в радость. «А ты еще отыщешь свою долю, свое счастье, родимая», — сказала доброхотная бабка, покидая на раннем рассвете совсем растерявшуюся было молодицу. Неделю спустя, ночью, девчонка-мать пробралась лесом в Завидово и сделала то, что ей насоветовали. А наутро ушла на станцию — уехала в город, стала работать на заводе, нашла-таки там свою «долю», которая, однако, не сделалась счастьем, потому что женщина та была не кукушкой, а человеком, к тому же очень совестливым. У нее уже были дети от этого, другого, а она все помнила про своего первенца и считала дни, когда получит отпуск и поедет в родные края, чтобы увидать там свою первую, брошенную на чужом крыльце кровинку…