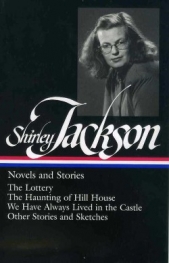Ивушка неплакучая

Ивушка неплакучая читать книгу онлайн
Роман известного русского советского писателя Михаила Алексеева "Ивушка Неплакучая", удостоенный Государственной премии СССР, рассказывает о красоте и подвиге русской женщины, на долю которой выпали и любовь, и горе, и тяжелые испытания, о драматических человеческих судьбах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из завидовцев провожали этот траурный кортеж Архип Колымага да Пишка, неизвестно каким образом очутившийся у Дальнего въезда; должно, накануне услышал от лесника о готовящейся охоте, ну и припожаловал; стоял Пишка, и не понять было по прижмуренному, как бы все время прячущемуся от людей, единственному его глазу, разделяет он скорбь тех, что укладывали бывшего секретаря райкома в машину, или нет. Скорее все-таки нет, поскольку, вернувшись сейчас же в Завидово, Пишка перво-наперво заглянул к Федосье Угрюмовой лишь затем, чтобы сообщить ей с нескрываемым торжеством и злорадством: «Нету больше твоего заступника, Фенька!» Она не скоро поняла, б чем это он, а поняв наконец и немного оправившись от потрясения, вызванного ужасным известием, быстро засобиралась в дорогу; у двери, оттолкнув Пишку в сторону, кинула прямо ему в лицо: «Он для всех нас был заступник. Кабы не Федор Федорович, тебя бы, гада такого, еще в сорок втором в расход пустили. Он хлопотал, чтобы в штрафную роту тебя… А ты еще ощеряешься! и-шел вон отсюда, кривой пес!» Вдогонку он заорал: «Ну ты, полегче на поворотах, не то…» Видя, однако, что слова его летят мимо цели, что Феня уже далеко, вышел не торопясь во двор, оглядел там новый, перекрытый шифером одновременно с избой хлев, изгородь из штакетника, курятник, кровля которого была еще соломенной, небольшой загончик для овец; особенно же долго и внимательно рассматривал избу, возведенную Феней еще весной сорок восьмого. Дорого, как увидим потом, досталось ей это жилье, очень дорого. Не оставила бы она в нем сейчас столь нежелательного гостя, не случись того, что случилось: теперь она бежала в сторону Красной Калины (так давным-давно наречен кем-то их районный поселок), забыв про все на свете, даже про то, что через неделю единственный сын ее Филипп должен уйти в армию. Лишь за Салтыковой Феню подобрала полуторка, на которой ехали в район ее отец — колхозный пенсионер, новый председатель Точка, Санька Шпич, его жена Настя и Авдей — всех их погнала в Красную Калину та же горькая весть. Пишка же вновь вернулся в избу, окликнул Филиппа и, убедившись, что его дома нету, задумался: более подходящего случая, чтобы учинить какую-нибудь неприятность ненавистному для него очагу, у него еще не было. Он задышал часто, соображая, что бы сделать такое… такое, чтоб и этой Феньке было несладко, и ему, Пишке, не горько, чтоб не держать потом ответа. Мысль почему-то обратилась на стоявшую в новом хлеву корову. Но… что, что он сделает такое, чтобы она того… чтобы копыта в сторону?.. «Ах да! — вдруг осенило его. — Только бы успеть, не вернулся бы откель-нибудь этот щенок!» Ровно через пять минут он бежал уже от кузницы с карманами, полными железных опилок. В одну минуту перемешал их с отрубями, найденными в Фенином амбарчике. «Все! Ешь, рыжонка!» — хрипло произнес Пишка, когда пробирался задами с чужого двора. А Фене и остальным завидовцам пришлось заночевать в районе, потому что похороны Знобина были назначены на следующий день.
Сперва гроб с его телом предполагалось установить в Доме культуры, но Кустовец настоял на том, чтобы крас-нокалиновцы простились со своим старым руководителем в здании райкома, то есть там, где им было привычнее всего видеть его. Знобина перед рассветом внесли в кабинет, осторожно положили на длинный Т-образный стол, на этот тяжкий крест, который он, Знобин, безропотно нес на своих далеко не богатырских плечах более четверти века. Руки, всегда чего-то искавшие и требовавшие, жесткие и властные, теперь покойно лежали на впалой груди детски крохотные и беспомощные; а лицо, как всегда худущее, с провалившимися щеками, не искаженное, однако, предсмертными мучениями, было еще покойнее — на нем не было только постоянной зно-бинской улыбки, иронической и доброй одновременно. Морщины на невысоком, с «пережабинкой», то есть с небольшой ложбинкой, лбу углубились, сделались отчетливей, они лежали, как кольца на стволе старого дерева, указывающие на число прожитых этим деревом лет. Но что обозначали знобинские морщины?
На красной подушечке — ордена, медали. Их немало. О наличии некоторых не догадывались даже близкие товарищи покойного и теперь, стоя в почетном карауле, с удивлением взглядывали на них. Ордена. Награды. Благодарности. А где взыскания? Где выговоры? Простые и строгие? С занесением в личную карточку и без занесения? Где они? Их нет. Говорят, остались лишь в бумагах, хранящихся в молчаливых обкомовских сейфах. Но только ли там? А не зажаты ли, не лежат ли они еще вон в тех горьких складках на маленьком, совсем не Сократовом лбу? Говорят еще, что Знобин мог бы и не упоминать о своих выговорах в соответствующей графе анкеты, поскольку выговоры эти сняты. Сняты? Как будто их можно снять. А не остались ли они незримыми зарубинками на разорвавшемся вчера сердце? И не по тем ли зарубинам прошлись роковые трещины? Тот, кто хоть один раз получал партийное взыскание, хорошо знает, где и какой след оставляет оно после себя…
Коллективизация. Солдат партии, Знобин вроде бы строго-настрого придерживался на селе ее политики, «гнал» процент раскулачивания согласно спускавшимся сверху разнарядкам; иногда, впрочем, его смущало немного то, что уж слишком категоричной была установка (сегодня раскулачить по вашему району столько-то дворов, завтра — столько-то, не больше и не меньше), но сомнение было минутным, оп решительно отбрасывал его от себя и вел прежнюю линию, то есть ту, на которую его нацеливали. Молодой, горячий, Знобин был сущим воплощением такой же молодой и горячей, нетерпеливо рвущейся вперед страны, и не удивительно, что, оказавшись в упряжке, мог поломать оглобли. Стоит ли говорить о том, что, подгоняемый общим, захватывающим дух порывом, он не щадил ни себя, ни других, — себя не щадил, не берег даже больше, чем других: дважды на каких-то проселках кулацкие пули пытались познакомиться с забубенной его головушкой, но пронеслись, слепые, мимо. Кончилось же тем, что его даже временно освободили от работы за «головокружение», присоединив к этому и без того суровому наказанию весьма увесистого «строгача». И что же? Принял как должное. Два года проработал председателем колхоза в самом отдаленном степном селеньице, а потом вернули на прежнее место. Затем наступил год 1933-й. Многие из тех, кто называл себя «зачинателем» и «запевалой» колхозного движения, почуяв неладное, быстрехонько перебрались в города и поглядывали потихоньку оттуда, что оно там, на селыци-не, и как. Иные из них, жалея Знобина, предлагали и ему последовать их примеру, но он даже не отвечал на письма непрошеных доброхотов: и в жестокую годину оставался с теми, с кем начинал, кого подымал, подталкивал, агитировал; нелегко было глядеть в голодные глаза, но он глядел, глядел прямо, не отводил в сторону своих глаз, не опускал их долу; было и такое, что в лицо ему бросались слова тяжелее самого тяжелого камня, — встречал, принимал на себя и этот удар, лишь бы он не угодил в главное — в Советскую власть; когда же, помутившись от озлобления разумом, кто-нибудь из земляков целился и в нее, Знобина покидала железная партийная выдержка, он кидался на обидчика, обрушивал на него потоки раскаленных в гневе слов и терзал до тех пор, пока тот не образумится и не взмолится: «Федор Федорович, да что вы… разве я… не с тобою ли вместе мы… Прости, пожалуйста, с голодухи и не такое скажешь!» Медленно остывая, Знобин закуривал, отсыпая из своего кисета табаку и тому, с кем только что вел сражение, казалось, не на живот, а на смерть. Вынесли и тридцать третий. Без взыскания, правда, и на этот раз не обошлось: дали строгий выговор за падеж лошадей — в районе их осталось не более десяти процентов от числа обобществленных. Куда более тяжким было наказание, которое он определил для себя сам и носил в сердце: не смог, не сумел сохранить жизнь многим, очень многим людям, коих унес жестоко памятный тридцать третий год. Когда самое ужасное оставалось уже где-то позади, когда прекратились бесконечные, круглосуточные шествия голодных людей за вонючей бардой к водочному заводу, когда число умирающих резко пошло на убыль, когда из области и центра прибыли по настоятельной просьбе секретаря райкома авторитетные комиссии, а вслед за ними — эшелон с зерном, когда в кизячные дымки над трубами деревенских изб стал вплетаться полузабытый хлебный дух, когда в глазах настрадавшихся людей засветился огонек жизни, собственный взор Знобина вдруг померк, полинял, отразив то, что было там, под впалой, резко обозначившей себя выпятившимися обручами ребер грудной клеткой. В своих скитаниях по осенним размокшим дорогам он и прежде много раз простужался, кашель частенько дони мал его, но Знобин не обращал на него внимания: подумаешь, кашель, а кого он не донимает! Не придал он особого значения и этому странному, короткому, царапающему легкие кашельку, пока однажды, на каком-то очередном заседании, не глянул на ладонь, в которую, застигнутый приступом кашля врасплох, только что отхаркнул мокроту. Слушая оратора, про себя подумал: «А дела-то твои, Федор, швах. Поганые дела!» Главный терапевт районной больницы на другой день подтвердил: дела «первого» действительно плохи. Он, врач, не сказал ни слова, а, прослушав больного, поглядел ему в глаза и поднял три пальца. Знобин сам расшифровал вслух: «Тэ-Бэ-Цэ». Честный доктор сделал чуть заметный кивок лобастой своей ученой головой. Так-то вот и завелся у Знобина маленький, «завалящий», как он сам не раз говаривал, туберкулезишко. Как известно, этот самый завалящий в дни войны привязал нетерпеливого, рвущегося на фронт Федора Федоровича к глубокому тылу, где он и «проскрипел», «провоевал» с бабами, дедами да подростками все четыре года, кормя, обувая и одевая молодой, здоровый воюющий народ. Не в каком-то другом, а в Краснокалиновском районе объявился знаменитый дед (его отыскал не кто-нибудь, а опять же Знобин), который на склоне лет тряхнул мошной и купил на собственные сбережения боевой самолет, вызвав тем самым небывалой высоты волну народного патриотизма, так что Верховный Главнокомандующий не успевал подписывать благодарственные телеграммы в адрес добровольных жертвователей. В конце войны получил орден Отечественной войны 1-й степени и сам Знобин, но это не помешало ему тремя годами позже получить выговор за то, что на одном из областных совещаний произнес непривычно странную речь, смысл которой сводился к тому, что трудодень земледельца должен наконец быть оплачиваем, что нуль, которому он, трудодень, был почти равен в течение многих лет, до хорошего не доведет, колхозник оставит свое поле и убежит в город, что на войну уже не сошлешься, что, ежели мы думаем в кратчайший срок… Знобина не дослушали — попросили после совещания задержаться и зайти в кабинет к «первому». Однако то, что его не дослушали, Федора Федоровича не удивило. Удивился он тому, что отделался очень уж легко: в те крутые времена рука взыскующего редко довольствовалась полумерами. Потом был год 1953-й, потом — 1958-й, были предутренние сумерки, когда от центральной площади по тихим, сонным улочкам и проулкам увозили на гусеничном «сталинце» тяжелый монумент; было затем утро, толпы краснокалиновцев, высыпавших на площадь в удивленном недоумении. Между тем шла полоса преобразований и реформ, укрупнений и разукрупнений, введение штата зональных секретарей: партия искала новые формы практического руководства. Знобин, как ему и полагалось, был в центре этих забот. И ежели в районе делалось что-то не так, ему влетало в первую очередь. В райком чуть ли не каждую неделю поступали знаменитые «Записки», которые тотчас же становились постановлениями; произносились длинные речи, занимавшие почти все газетные полосы, они сейчас же брошюровались и спускались на места уже в качестве директив; синие книжки, похожие на толстые ученические тетрадки, заполнили все полки и запасные столики в служебном и домашнем кабинетах первого секретаря райкома; было в тех брошюрах много толкового, но попробуй-ка отыскать жемчужное зерно в Монблане бумаг! Случалось, что телефонный аппарат, стоявший на особой тумбочке, обособленно от других аппаратов, напоминал Знобину, что тот забыл такое-то место из такой-то директивы или речи, и строго предупреждал о возможном взыскании за такого рода халатность. Время, однако, шло и вместе с людьми делало свое дело. Селения постепенно оживали. С переключившихся на мирный лад заводов двинулась на поля техника. Трудодень наливался подобно тому, как наливается на возделанной ниве пшеничный, ржаной ли колос. Кое-где — и это уже было нечто совершенно новое! — стали переходить на денежную оплату, и, что уж совсем удивительно, делали это по собственной инициативе. Началось все с Виктора Лазаревича Присыпкина, с Точки, значит, который совсем недавно был избран председателем колхоза вместо ушедшего на пенсию Леонтия Сидоровича Угрюмова. Ему, этому отважному парню, надо было бы сначала посоветоваться в райкоме, но он опасался, что там его не поддержат, скажут, что затея его преждевременна, а потому и рискованна, — решил попытать счастье сам. Не ожидая результата, Знобин дал этому герою превеликую взбучку, а потом получил пагоняй от нового секретаря обкома, только что вступившего в должность, за то, что не поддержал ценную инициативу товарища Присыпкина, не увидел за его акцией завтрашний день колхоза. Это было первое взыскание, которое Знобин принял с легким сердцем, потому что видел: получил его вполне заслуженно. Трудно себе представить человека, особенно коммуниста, который гордился бы полученным им взысканием. А вот в личном деле первого секретаря Краснокалиновского райкома можно отыскать выговор, которым он, секретарь, втайне гордился, как гордятся боевым орденом. Когда он, Знобин, увидел, что дела в стране, а значит, и в его районе, идут явно на поправку, когда люди взбодрились, досыта наелись, приоделись и приобулись, решил осуществить давно задуманное им дело: поставить в палисаднике райкома настоящий памятник двадцати шести краснокалиновским комиссарам — так жители поселка нарекли коммунистов, павших от рук антоновских бандитов в 1921 году; случайно их оказалось как раз двадцать шесть; впрочем, был бы и двадцать седьмой, но ему удалось ускользнуть из-под самого носа палачей. Это был, как известно, Федор Знобин, возглавивший на рассвете отряд краснокалиновцев и в один день разгромивший всю банду антоновского атамана Попова. И Знобин, естественно, считал своим долгом увековечить память товарищей, сложивших головы за революцию. Но он знал, что на сооружение памятника необходимо правительственное решение, и, боясь, что дело затянется слишком надолго, а собственное его здоровье с неумолимой жестокостью укорачивало его дни, отдал распоряжение построить памятник на пожертвования кали-новцев. И памятник был построен. И он стоит, окруженный новой железной оградой, окрашенной в кумачовый цвет, перед райкомом, и пионеры возлагают у его подножия венки и дают свою пионерскую клятву. Выговор же, полученный Знобиным за самоуправство, погребен в архивах и давно забыт даже теми, Кто его выносил. Теперь, спустя всего лишь полтора года, несколько молодых ребят-комсомольцев, молчаливо-строгие и торжественные, орудуют лопатами, готовя рядом с тем памятником могилку и для самого Знобина — так распорядился Кустовец, так распорядился бы каждый житель Красной Калины, ежели бы его спросили о том.