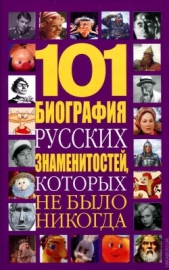Биография

Биография читать книгу онлайн
В новую книгу писателя-фронтовика Юрия Додолева вошла повесть «Биография», давшая название сборнику. Автор верен своей теме — трудной и беспокойной юности военной поры. В основе сюжета повести — судьба оказавшегося в водовороте войны молодого человека, не отличающегося на первый взгляд ни особым мужеством, ни силой духа, во сумевшего сохранить в самых сложных жизненных испытаниях красоту души, верность нравственным идеалам. Опубликованная в журнале «Юность» повесть «Просто жизнь» была доброжелательно встречена читателями и критикой и удостоена премии Союза писателей РСФСР.
Произведения Ю. Додолева широко известны в нашей стране и за рубежом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Артподготовка!
Я хотел спросить, кто стреляет — мы или немцы, но он, опередив меня, уверенно добавил:
— Наши палят!
Через равные промежутки небо над лесом становилось малиново-дымным, над нашими головами прокатывался гул. Было немного жутковато от мысли, что передовая где-то совсем близко.
Лил дождь, небо озаряли всполохи, и очень скоро дождь, всполохи, темный лес — все это стало восприниматься как неизбежность. Шинель, гимнастерка, нательная рубаха промокли; я ощущал на плечах холодную, липкую влагу, боль в ступне то стихала, то появлялась снова; американские бутсы, производившие впечатление прочных, непромокаемых, оказались хуже решета — я чувствовал, как набухают, впитывая воду, портянки; в голове почему-то вертелись бабушкины слова: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Я был убежден, что не погибну, старался не думать, каким — опасным или пустяковым — окажется ранение.
Я не видел в эти минуты уголовников и, признаться, не вспоминал о них, а вот лица Ивана Ивановича, Панюхина и стоявшего неподалеку Старшого остались в памяти. Старшой был спокоен. Держа двумя пальцами самокрутку, обращенную огоньком к ладони, он с наслаждением курил, изредка стряхивал мизинцем пепел, одобрительно кивал, когда гул над нашими головами густел. Панюхин ничем не выдавал своего волнения, но я был уверен — он волнуется так же, как и я. Иван Иванович продолжал озираться, что-то бормотал. Кинув под ноги чинарик, Старшой придавил его машинально движением ноги, после чего, повернувшись к Сухих, насмешливо спросил:
— Мандражишь?
Иван Иванович покашлял.
— Молюсь.
— Ну?
— Ей-богу, молюсь! Когда в первый раз на фронт прибыл, списал себе молитву — один человек дал. Листок с этой молитвой по рукам ходил. Пожилые люди ее охотно списывали, а те, что помоложе, скалились.
— И правильно делали!
— Не скажи… Заварушка такая была, что, как вспомню, волос дыбом встает. Сколько людей тогда погибло, а я вот помолился и уцелел.
— А потом деру дал?
Иван Иванович нехотя кивнул.
— Снова рванешь, если страх накатит?
— Теперь мне этого никак нельзя. На формировке политрук каждый день говорил, что я должен оправдать и смыть.
— Правильно! — сказал Старшой. — Лучше в штаны навали, но… — И он рассек рукой воздух.
Я боялся, что Старшой назовет меня маменькиным сынком или скажет что-нибудь еще, очень обидное, потому что никак не мог перебороть внезапно возникший страх. И вздрогнул, когда он вдруг положил на мое плечо руку. К моему удивлению, Старшой сказал совсем не то, чего я ждал.
— Это с непривычки, Самохин, — сказал он. — Ты хорошим красноармейцем станешь, если, конечно, тебя…
«Меня не убьют. Меня не должны убить!» — мысленно крикнул я.
Вспоминая теперь штрафбат, я с уверенностью могу сказать: ко мне Старшой относился хорошо. Я постоянно ловил на себе его участливые взгляды. Когда наши глаза встречались, он или подмигивал мне, или ободрял кивком. И хотя нам ни разу не удалось поговорить по душам, я чувствовал — Старшой выделяет меня среди остальных. Я терялся в догадках, спрашивал себя, чем вызвано такое внимание ко мне, а ларчик, видимо, открывался просто: я никогда не базарил, как это делали другие, не старался казаться лучше, чем был, без утайки сообщил о том, что натворил, никого не обвинял, не приуменьшал своей вины, не скрывал неприязни к уголовникам; лишь ощущение собственной вины мешало мне открыто сказать им то, что я думал о них. Старшой, наверное, это понимал.
Вижу, как будто прошлое было только вчера, опустевшие теплушки на одноколейном пути, чувствую на лице холодные дождевые капли, слышу невнятное бормотание, вздохи, втягиваю голову в плечи, когда, мне кажется, по небу прокатывается орудийный гул. Много лет прошло с того дня, а я все помню. Помню, как прозвучала команда и мы побрели по узкой дороге, петлявшей в лесу. Помню, как разъезжались на слизи ноги, как хлюпало в бутсах. Хотелось лечь и отдохнуть хотя бы пяток минут, но даже остановиться было нельзя — позади тяжело переставлял ноги Иван Иванович.
Мне не довелось увидеть Старшого в бою — через несколько дней он погиб, погиб нелепо, как иногда погибают люди. Наспех сделанный плот — Старшой был заядлым рыболовом — перевернулся посереди реки и… Холод, вмиг отяжелевшая шинель, наполнившиеся водой сапоги — он, наверное, камнем пошел на дно. Правда, кто-то уверял, что Старшой пытался выплыть. Кто уверял? Кто поднял крик? Этого я не помню. Помню только одиноко плывший по течению плот. Помню, как тоскливо сделалось мне, когда до сознания дошло — Старшого больше нет. Помню удрученные лица штрафников, их шепот, помню, как что-то бормотал про судьбу Сухих, до тех пор бормотал, пока Широкоплечий не рявкнул:
— Заткнись, старый черт, и без тебя тошно!
Чем дальше мы углублялись в лес, тем угрюмее становился он. Глаза ничего не видели, однако чувства были так обострены, что не составляло труда представить, где мы и какой вокруг нас лес. Да и нависшие над дорогой ветви задевали плечи, хлестали по лицу, оставляя на нем ссадины, омывая его все новыми и новыми пригоршнями воды. Иногда казалось: мы идем по темному коридору, который никогда не кончится, что этот лес — лабиринт. В голове было одно — добраться бы до какого-нибудь пристанища, согреться, отдохнуть. Я и понятия не имел, что там, куда мы идем, нет даже сарая, что нам, едва стоявшим от усталости на ногах, сразу же придется рыть землянки, строить блиндажи. Откуда взялись лопаты и топоры, не помню. В теплушке их не было — это абсолютно точно.
До сих пор не люблю копать. Стоит взять в руки лопату, нападает тоска, что хоть волком вой. Иногда кажется, что на фронте я чаще всего мозолил руки — рыл, рыл, рыл.
6
Днем ничто не предвещало, что сразу после отбоя мае поднимут по тревоге и мы, протопав километров пятнадцать по раскисшей дороге, очутимся в реденьком лесу, откуда, едва забрезжит утро, устремимся на деревню, превращенную немцами в опорный пункт.
Днем все было, как и в предыдущие дни. По-прежнему то моросил, то лил, прекращаясь на час-полтора, дождь, по-прежнему нас обучал на полузатопленном лужке въедливый сержант: заставлял ложиться, вскакивать, ползать, палить по мишеням, колоть штыком чучело — неизвестно откуда взявшуюся немецкую шинель, набитую травой, пустыми консервными банками, укрепленную на осиновом колу.
Бегать и особенно ползать было утомительно, не тяжело, а именно утомительно, а чучело я колол с удовольствием, старался попасть в то место, где у человека сердце. Однако рябой сержант с тяжелым подбородком утверждал, что колоть надо в живот, и охотно показывал, как это делается. Он досадливо сплевывал и произносил два-три крепких слова, когда кто-нибудь промахивался или продырявливал штыком свободно болтавшиеся полы немецкой шинели.
Бегал я быстрее всех и ползал сносно, а вот стрелять метко никак не мог научиться — выпущенные мной пули пролетали мимо мишени. Обозвав меня растяпой, сержант с ухмылкой спрашивал:
— С девками так же плоховал?
В его голосе была и снисходительность, и игривость, и насмешка. Все, кто находился в это время на стрельбище, поднимали головы, в глазах появлялся блеск, а я мучительно краснел — признаваться в том, что у меня не было близости с женщиной не хотелось, лгать тоже.
— Лопух, — ласково бросал сержант и, пристроившись возле меня, начинал объяснять и показывать, как надо целиться.
От него несло сивухой. Было искушение отвернуться, но я боялся обидеть сержанта. Поэтому, набрав в легкие побольше воздуха, я старался не вдыхать, пока он объяснял, и, конечно, промазывал, когда нажимал на спусковой крючок.
— Мазила! — разочарованно восклицал сержант и чаще всего отходил, безнадежно махнув рукой, а иногда, влажно дыша на меня, снова принимался показывать.
Бегая по плацу с винтовками наперевес, ложась и вскакивая по команде, мы выпачкались, как черти, и так вспотели, что от нас валил пар. И это несмотря на холодный день, ненастье, к которому мы уже привыкли, даже перестали надеяться, что когда-нибудь снова станет тепло, сухо.