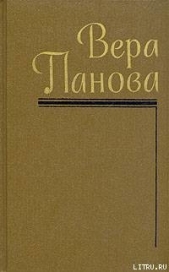Собрание сочинений (Том 2)
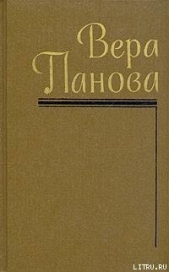
Собрание сочинений (Том 2) читать книгу онлайн
Во второй том собрания сочинений Веры Пановой вошли романы «Времена года», «Сентиментальный роман», роман-сказка «Который час?».
_______________
Составление и подготовка текста А. Нинова и Н. Озеровой-Пановой.
Примечания А. Нинова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эту мысль Севастьянов отгонял, как привык отгонять все мысли, оскорбительные для Зои. Но что ей больно, что она лежит с этой болью одна в какой-то неизвестной ему страшной комнате, — этим не мог не мучиться весь бесконечный день… Сбегал домой, прибрал немножко, положил на стол плитку шоколада — она любила. Потом застал себя на той улице, перед тем домом. Докторская квартира была на втором этаже. Задрав голову, Севастьянов разглядывал окна второго этажа. Вышел на середину мостовой, чтобы лучше видеть. Окон было много, на одних висели тюлевые гардины, на других полотняные, невозможно было определить, за которой из гардин ее прячут, что с ней делается…
Вечером звонил у отвратительной этой двери на втором этаже. На этот раз его и в переднюю не впустили, велели ждать на площадке. Но при этом сказали: «Сейчас она выйдет»; гора с плеч… Она вышла очень бледная, ступая осторожно, не спеша. Волосы ее зачесаны были гладко, и это вместе с бледностью делало ее лицо по-новому трогательным, страдальческим. В руках у нее был маленький сверток в газетной бумаге — ее одежки. «Возьми», ласково-покровительственно, как взрослая мальчику, сказала она и отдала сверток Севастьянову. Дверь за ней захлопнулась. Молча, тихо, чуть-чуть притронулся он губами к ее прохладному лбу; взял за руку и повел вниз по лестнице…
Дома она легла в постель и ела шоколад, отдыхая от пережитого, и он поил ее чаем. И стерег, сидя возле кровати, пока она не уснула. В бережной тишине кончался вечер. Смуглел прямоугольник окна; света Севастьянов не зажигал. Как там во дворе разговаривали, свистели, ходили — их не касалось и потому не существовало. В их комнатке темнело и стемнело, в темноте царило молчание покоя, глубокого мира после тревоги. Позвякиванье ложечки в стакане, нечаянный скрип стула — и безмолвие снова, и в безмолвии очертания ее головы на отсвечивающей белизне подушки, ее рука, покоящаяся под его рукой…
Дня через два она бегала с Дианой как ни в чем не бывало. Жизнь пошла по-прежнему. Но Зоя стала жаловаться на скуку:
— Я без тебя просто умираю!
Клуб, где она танцевала, на лето закрылся, да она уж и охладела к танцам, к тому же в этом клубе служил ее брат, ей не хотелось встречаться с ним. Она читала книги, которые брала в библиотеке и у ведьм, — читала быстро, глотая книгу за книгой, но без особенного интереса, будто даже свысока, не придавая значения тому, что там написано, — прошло время, когда она благоговела перед пишущими и их творениями… Она играла в мяч с детьми, болтала с инвалидами, с Кучерявым, но это не могло заполнить ее день.
— Скуча-а-ла! Умира-а-ла! — наивно подняв брови, жаловалась она, когда он спрашивал, что она без него делала.
Он понимал: кому угодно в конце концов осточертеет праздность. Очень приятно заставать ее дома, когда ни забежишь; но это — собственнические, буржуазные инстинкты; человек должен трудиться. Стал советоваться с товарищами в редакции и в типографии, как бы пристроить ее на работу. Но ничего еще не успел придумать и ни от кого получить совета, как она ему сказала с воодушевлением:
— Знаешь, я устроилась!
Ее пригласили к себе инвалиды — буфетчицей. Как буфетчицей, у них и буфета нет? Ну, ради нее, Зои, организуют. Ну, не ради нее, конечно; просто жизнь им подсказывает. Ведь не все посетители хотят непременно пить за столиком кофе или есть мороженое, некоторым желательно просто купить пару пирожков, или даже один пирожок, и унести с собой, для ребенка или чтобы съесть в обеденный перерыв. И таких посетителей гораздо больше даже. Вот для них-то и организуется буфет, и Зоя будет буфетчицей. Она кружилась и веселилась, сообщая все это.
— Ты подумай, какая работа: чистенькая! Прелесть! Я стою в шелковом фартучке! Вся в ароматах! С маникюром!.. Теперь мне обязательно придется сделать маникюр!
— Ты, значит, будешь занята днем и вечером, — сказал Севастьянов, мы никуда не сможем пойти вместе.
«У инвалидов дела обстоят неважно, — подумал он, — они берут ее за красоту, как та балетная группа».
Зоя не дала ему говорить:
— Ты подумай! Ни на трамвае не нужно! Ни пешком! Перебежать двор, и я на работе! Никакая погода не страшна! И ты представляешь, как мне пойдет маникюр! Ты представляешь: ногти — как розовые миндалины!
Что он мог ей предложить вместо этих радостей? Ровным счетом ничего. Разве — и то предположительно — что-то вроде памятной ему работы на картонажной фабричке… Зоя кружилась перед ним, раздувая свое светлое новое платье. Он перестал возражать.
Главный инвалид, сине-черный, усатый, с очень толстыми бровями, остановил его во дворе.
— Товарищ Севастьянов, ваша супруга любезно согласилась поработать у нас в кафе. Если вы, может быть, имеете насчет этого какие-нибудь мысли, то я вам вот что скажу я сам отец, имею дочь, и ни я, никто в «Реноме» не допустит даже тени чего-нибудь! Даже тени, товарищ Севастьянов!
— Она согласилась, — сказал Севастьянов, — значит, она тоже так считает. — Он поспешил уйти, этот разговор его смущал.
А после главного инвалида поймал его Кучерявый.
Он вышел из своей пещеры — темных больших сеней, где смутно виднелись куда-то ведущие двери, — и захромал к Севастьянову, окликая невнятно:
— Эгей! Эй! А ну!
В белой куртке нараспашку, карандаш за ухом, блокнот в нагрудном кармане. Волосы — матрацные пружины. Белое лицо — ком сырого теста, и на нем маленькие, темные, подвижные, рассеянные, соображающие глаза. В первый раз (и последний) стоял он так близко от Севастьянова.
— Вы что же, — негромко и как-то пренебрежительно спросил Кучерявый и, склонив голову, устремил свой подвижной взгляд на севастьяновские сандалии, — вы, значит, ничего не имеете против, чтобы Зоя поступила в кафе?
«Это уже безобразие, — подумал Севастьянов, — еще и этот будет вмешиваться? Ему-то что?»
— Почему я должен быть против? — спросил он.
Кучерявый раздумчиво вскинул голову и смотрел ему на лоб с выражением отвлеченного интереса, словно решал в уме задачу, — казалось, сейчас вынет из-за уха карандаш, из кармана блокнот и запишет решение.
— Так ведь с улицы придет кто хочешь, — сказал он все так же пренебрежительно-безразлично.
— Ну придет, — нетерпеливо сказал Севастьянов, соскучась ждать, когда он решит свою задачу, — и что из этого следует?
— Придет и будет ходить, ему не воспретишь.
— Не понимаю.
— Наговорит сорок бочек арестантов, — уронил Кучерявый.
— Не понимаю! — повторил Севастьянов, хотя уже понимал и начинал пылать гневным пламенем.
— И уведет, только ты ее и видел, — вздохнул Кучерявый, от вздоха колыхнулись его бабьи покатые плечи.
— Иди ты знаешь куда! — сказал Севастьянов.
— Постой! — негромко вскрикнул Кучерявый вслед. — Эгей! Да ну! Погоди!..
Севастьянов не оглянулся. Он не сказал об этом разговоре Зое. (Первый и последний его разговор с Кучерявым.) Эти пересуды за ее спиной — черт знает что.
Инвалиды сшили Зое шелковый фартучек и наколку. Зоя побывала в парикмахерской и сделала маникюр. С ногтями как розовые миндалины, с белой наколкой на темных волосах, встала она за прилавком в «Реноме», забавляясь так же беззаботно, как забавлялась полгода назад клубной сценой и пачками из марли.
43
Дни и недели, которые за этим следовали, Севастьянов никак не может восстановить подробно и стройно. За далью, за тогдашним смятением, слишком многое сместилось в памяти, одни события распались на куски, на не связанные между собой сцены, лица, голоса, а другие события выросли несоразмерно своему значению…
Когда на страницах «Серпа и молота» стало мелькать имя Марии Петриченко?.. Это была селькорка, писала о работе делегаток женотдела, о рыбацкой артели, еще о чем-то. Заметки были подписаны: хутор Погорелый, Маргаритовского сельсовета.
Севастьянов как-то спросил Кушлю — что за хутор и не знает ли он, Кушля, Марию Петриченко, поскольку сам он тамошний. Никаких Петриченок Кушля не знал.