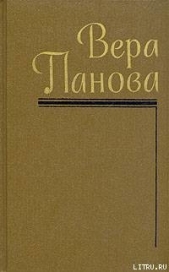Собрание сочинений (Том 2)
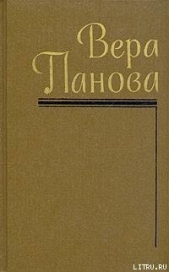
Собрание сочинений (Том 2) читать книгу онлайн
Во второй том собрания сочинений Веры Пановой вошли романы «Времена года», «Сентиментальный роман», роман-сказка «Который час?».
_______________
Составление и подготовка текста А. Нинова и Н. Озеровой-Пановой.
Примечания А. Нинова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вот черт. Как ты добилась?
— Я не добивалась. Я не понимаю, что вы нашли в них страшного. У нас на Первой линии куда скандальней были тетки. Эти мне рассказывают свою жизнь…
— Может быть, дело в том, что мы с Семкой их не просили рассказать нам свою жизнь?
— Очень может быть, — ответила она убежденно. — Им же надо кому-то рассказывать. А друг другу они давно рассказали и спели.
— Спели?
— Да. Эта, которая носит валик на голове, Ольга Кирилловна, — она мне поет романсы, которые пела в молодости.
— А инвалиды тебе тоже поют? — спросил он смеясь.
Она и с инвалидами подружилась, и они с ней раскланивались и заговаривали приятельски, и играла и бегала по двору с Дианой, собакой Кучерявого.
Собака прижималась к ее ногам и заглядывала ей в лицо.
Люди и собаки льнули к ней.
Севастьянов был здорово загружен. Акопян отнесся к его просьбе чутко — завалил его работой выше головы; в ячейке приходилось замещать секретаря, молодого печатника, ушедшего в отпуск. Но, несмотря ни на что, раз-другой в день Севастьянов забегал домой проведать — как там Зоя; увидеть ее, услышать, увериться, что все обстоит так же, как три часа назад… Все обстояло так же и даже еще лучше. И полно событий было начало лета.
Он вел ее на базар, чтобы накормить. Вел за руку, как ребенка. Над степью пролетала в это время гроза, краем зацепила город; докатывались ее раскаты, дождь шел, а солнце продолжало сиять. Они не спеша беззаботно шли под теплым дождем. Ее темные кудри намокли и стали почти черными. Платье облепило плечи. И на губах была влага дождя, когда он поцеловал эти губы. Навстречу шли с базара молочницы, гремя пустыми бидонами, и смотрели на них с негодованием, которое их смешило.
Пришли на базар, он ее кормил своими любимыми кушаньями. После всего купили клубники и ели ее на ходу, такое было удовольствие — выбирать для Зои самые крупные ягоды. Почему-то им необходимо было наточить нож. Лакомясь клубникой, промокшие до нитки, они искали точильщика. Тот стоял под навесом рыбного ларька, где гирляндой висели на веревке копченые рыбцы такого цвета, как начищенный самовар. Точильщик точил нож, бенгальскими звездами слетали с точила искры. В соседнем ряду торговали свежей рыбой: длинным валом было навалено животрепещущее мокрое серебро. Серебро дождя поливало эти груды сулы, чебака и сазанов, перламутровые глаза и дышащие жабры на малиновой подкладке…
В другой раз их настигла настоящая гроза, они пережидали ее, вместе с другими прохожими, в чьем-то темном парадном. Когда грохот ливня и грома утих, вышли на добела умытую улицу. По мостовой, в гребнях пены, скакал поток. Пришлось разуться. Севастьянов засучил брюки. Босиком перешли они бурный поток, неся обувь в руках. И смеялись, все им было смешно.
Тем ножом она порезала палец. Как он испугался! — до холода в спине при виде крови. От испуга накричал на Зою: голова садовая, надо же помнить, что нож наточен! Он видел кулачные бои, сам, пацаном, в кровь бился с пацанами; но здесь была ее кровь, бегущая струйкой из ее пальца, из продолговатой, как виноградина, подушечки ее пальца…
Покупали материю на платье. Она вошла в магазин с благоговейным выражением. Тихим взволнованным голосом сказала продавцу: «Покажите, пожалуйста, маркизет», — старик продавец понял, что случай чрезвычайный, огромный, и отнесся к ней так внимательно… Осторожно щупала, перебирала, поглаживала ткань ласковыми руками, — один палец был перевязан белой тряпочкой…
Ходили в кино (тогда оно называлось «биограф»); смотрели «На крыльях ввысь», и «Банду батьки Кныша», и американские картины с ковбоями и погонями, и старые картины с Верой Холодной — неправдоподобная жизнь в особняках и виллах, любовные измены, адская ревность с смертельным исходом. Что бы они ни смотрели, они ежеминутно целовались, словно им больше негде было целоваться, кроме как в биографе, в сумраке сеанса. И руку ее он крепко держал в своей, кто бы там на экране за кем ни гнался и кто бы ни травился.
Бывали в театре и на концертах, она все это любила еще больше, чем он. «А куда мы пойдем сегодня? — спрашивала. — А куда пойдем завтра?» В молодежный летний клуб пошли два раза и перестали ходить: там мелькало желтое больное лицо Спирьки Савчука и на всех аллеях, куда ни сверни, болтал, резвился, вертелся перед девчатами нарядный, пропахший кожевенным запахом, розовый и миловидный, как девочка, Ленька Эгерштром. Савчук отворачивался, а Ленька позволял себе как-то очень странно посматривать на Севастьянова, очень обидно, с сожалением, — этот пижон! И что еще странней и обидней: Севастьянов не отваживался подойти и спросить — «ты почему так смотришь?» Его щеки тяжко горячели от Ленькиных взглядов, он слышал, как Зоя, идя рядом, начинает хохотать без причины нервным хохотом, который ему не нравился и был непохож на ее настоящий смех, — и он говорил: «Уйдем». Зоя, видя его настроение, сказала, что в молодежном клубе скучно и ей надоели мальчишки.
И без молодежного клуба можно было хорошо провести вечер. В гостеприимный теплый город приезжали из Москвы на гастроли театры, певцы, музыканты. Контрамарки всегда удавалось достать через редакцию.
Был один концерт… По глупости и серости Севастьянов не поинтересовался фамилией певицы. Когда объявляли, не слушал, а после не догадался заглянуть в программку — узнать, как звали человека, который, явившись ему однажды и мимолетно, запомнился на всю жизнь. Немолодая, сухая, высокая, острые локти, большие руки. Большой рот становился удивительно красивым, когда она пела. А пела она о любви Севастьянова, только о любви Севастьянова, ни о чем другом; и пристально, казалось ему, глядела на него близко посаженными темными глазами, и он ей улыбался смущенно-благодарно, тронутый ее сочувствием, ее совершенным пониманием того, что в нем делается. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный… торжествующе пела она, это было молодое, первое торжество Севастьянова, во тьме твои глаза блистают предо мною»… «Я чего-то так робко, так трепетно жду», — пела она потом иначе, медленно, пригашенно, как сквозь дымку, это Севастьянов рассказывал о нынешнем своем постоянном ожиданий нового и нового потрясения счастьем. Темные, близко посаженные глаза глядели на него умно и задумчиво. «Она знает! — думал он, полный ответного понимания. — У нее это было тоже!» И хотя, например, слова романса «Редеет облаков летучая гряда» не подходили к его состоянию, но дело ведь не обязательно в словах, дело в том, как спеть, в музыке, усиливающей тревогу, порыв ожидания. И словно подытоживая то, что носил в себе Севастьянов, женщина пропела негромко: «Открылася душа, как цветок на заре», — и началась ария Далилы, ария, которую с тех пор и навсегда не может услышать Севастьянов без того, чтоб не дрогнуло в нем что-то и не увиделся зал, рояль высоко на эстраде, и белое платье певицы, и сам он, напряженно слушающий повесть своей любви. «От счастья замираю! От счастья замираю!» — пел, заполняя зал, распахнутый ликующий голос, — Севастьянов замер и закрыл глаза.
Потом думал: что за контакт с незнакомым человеком, что за нитка вдруг натянулась между ними.
Конечно, она не на него смотрела, у нее глаза такие, немного скошенные, кажется, что смотрят на тебя. А нитка все-таки натянулась.
До чего хорошо, что есть на свете музыка, стихи, рояли, залы, человеческое тяготение друг к другу, человеческое бескорыстное взаимопонимание.
Много добра накопили люди, думал Севастьянов. Зданиями, словами, чувствами обстроили и заселили землю. И как прекрасно — к тому, что накоплено, приложить свою часть, думал он.
Не просто быть и исчезнуть, а оставить после себя что-нибудь достойное быть сбереженным. Достойное быть унесенным в перспективу веков! Какая высокая судьба!..
…А пения такого он больше уже не слыхал, хоть и переслушал за свой век несчетное число певцов и певиц.
41
Севастьянов писал в редакции. Вошел Кушля. С порога уважительно оглянув пишущих репортеров, прошел к севастьяновскому столу, сел и развернул газету.