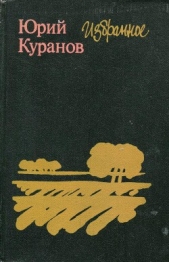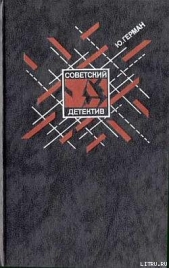Наши знакомые

Наши знакомые читать книгу онлайн
Роман «Наши знакомые», создан в 1932–1958 годах. Роман запечатлел переломную эпоху в истории нашей страны — годы первых пятилеток. Героиня романа Антонина Старосельская мечтает о счастье. И настоящее счастье приходит тогда, когда ей удается найти свое дело в жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но, мадам…
— Не мадам я тебе, дрянь ты паршивая! Другие девушки руки мне целуют, а она…
— Мадам, так ведь я вам все отдавала, голой из заведения ушла…
— Молчать, дрянь!
— А что платье поплиновое — так ведь ваша добрая воля была, сами учили, как кавалера плечом позывать и духами, и как шевелиться, чтобы корсет скрипел, и как ихнего брата распалять, сами-то вы небось всю науку произошли!
— Замолчать, говорю!
— Хватит, молчали…
Вдова Петербранц поднялась, схватила сумку и сумкой ударила Оленьку по лицу. Оленька взвыла, а вдова ударила еще раз и еще… Звуки гармоники оборвались. Косой унтер бросил играть и через секунду ввалился в комнату…
Разняли…
Весь вечер Оленька плакала, свернувшись на кровати в комок. Я топил печку.
А Косой унтер наигрывал все ту же песенку:
Отца забрали на фронт. В феврале пятнадцатого он получил георгиевский крест. Одиннадцатого марта в бою при хуторе Крестицы он был тяжело ранен, а через шесть дней умер.
С полгода Оленька держалась. Штопала какие-то чулки, клеила коробки, папиросы набивала. Я промышлял медью — сдавал все на военный завод…
Но летом Оленька не выдержала.
Зашел за ней ферт какой-то в лаковых штиблетах, пахучий, лысый, пообещал прокатить в моторе и увез. Больше она не вернулась. А за вещами ее пришли от вдовы Петербранц дворник да вышибала.
Потом как-то видел я ее в полпивной на канальчике. Пьяненькая, толстая, с челочкой, медленным своим голосом она пела «Очи черные, очи страстные» и ни с того ни с сего хихикала. Ее тискали, она визжала и все пыталась спеть: «Оля и Коля бегали в поле…»
Так и исчезла.
В приюте для сирот нижних чинов, павших смертью храбрых, я чистил картофель, строгал брюкву, мыл мясо, а ел всегда пшенку полусырую, с песком, даже со щепками. По утрам много молились. Сирот с каждым днем становилось больше, им стригли головы под нуль, выдавали брезентовые сапоги на деревянной подошве, арестантские какие-то халатишки (так и просился бубновый туз) и долго наставляли — что плохо и что хорошо. Воровать — плохо, молиться — хорошо, вши — плохо, шаркать ножкой — хорошо, евреи — плохо, они шпионы, директор приюта — хорошо, он добрый, курить — плохо, клеить корзиночки — хорошо.
И клеили: клеили цепи из цветной бумаги, прилежно клеили, цепями был завален весь чердак, плели рябенькие дурацкие корзиночки, их сваливали на террасу, а потом откровенно жгли…
Учили стишки:
Или:
Фребеличка — веселая и разбитная тетя Полли (Полли она стала потому, что училась в Англии и вывезла оттуда истерическое преклонение перед всем английским) — работала только днем, вечером же и ночью над воспитанием сирот трудились в очередь всегда потный Максим Максимыч и его подручный Игнат.
Порол Максим Максимыч собственноручно, Игнат обычно держал за ноги, дворник Лопух — картежник и вор — за голову, а чтоб было спокойнее — за уши.
Порол Максим Максимыч веревкой, и так как я однажды, потеряв голову, ткнул воспитателя шилом, а дело следовало непременно замять, то Максим Максимыч и обработал меня, да так, что пошла горлом кровь. Я не сдался и во второй раз ткнул Максима Максимыча шилом, но ловчее — меж ребер. Теперь и воспитатель стал плевать кровью, а меня после особого судебного присутствия отправили в колонию для малолетних преступников, дефективных и трудновоспитуемых, причем назван был я уже не сиротой павшего смертью храбрых, а проще — малолетним преступником.
В колонии не только пороли, но и сажали в темный карцер, а сверх всего, кормили тертой брюквой да жмыхом — тамошний директор воровал.
Стишков тут не учили и корзиночек не плели. Не до того было.
Осенью, после очередной порки, я бежал. Куда? Не знаю! Бежал от Нерыдаевки, от Солдатского поля, от мокрой лозы в колонии, от строгих глаз Николая Чудотворца в нашей темной и грязной столовой, бежал мальчишкой еще, но уже и юношей, бежал к тому, что начиналось далеко от стен нашей распроклятой колонии, но, как я понял потом, имело к нам непосредственное отношение…
— В революцию? — тихо спросила Антонина.
— Тогда я не знал про нее.
— Так куда же?
Сидоров подумал, закурил еще папиросу, пожал плечами:
— Теперь трудно объяснить. На шум убежал. Какой-то, понимаешь, шум начался, не похожий на все пережитое.
— А потом — как Безайс и Матвеев?
— Кто, кто? — не понял Сидоров.
— Виктора Кина есть книга…
— Н-ну… не совсем так…
— И вы воевали?
— Немного. И все ждал в армии — я ведь потом долго в армии служил, — все боялся, что без меня с Нерыдаевкой начнут расправляться. Ан нет, не расправились. Пришел сюда, только демобилизованный, здесь еще все по-прежнему было…
— И вас сюда направили?
— Зачем направили? Сам напросился. Долго просил. Я ведь тут с самого начала, еще до генерального проекта ходил, мечтал, как вонючие хибары ломать будем, как скверик насадим, болото засыплем, очистим весь этот срам…
Он задумался и повторил:
— Срам и стыд былого.
Еще прошелся, махнул рукой и сел на диван, на валик.
— Смешно. Вот родилась у меня дочка, и лет через двадцать совершенно спокойно скажет: «Нерыдаевский жилмассив». Ей-то уж будет совсем ничего не понять об этом нашем времени…
И спохватился:
— А в кино? Опоздали? А, Тоня?
В нерыдаевском клубе показывали «Одну» — картину про учительницу и про то, как она поехала на Алтай. Антонина сидела съежившись, глядела на экран исподлобья, часто и коротко вздыхала.
— Это вы мне нарочно такую картину показали? — спросила Антонина, когда они вставали со своих скрипучих стульев.
— Почему нарочно? — усмехнулся Сидоров. — А впрочем, нарочно.
— Чтобы я знала, какое я ничтожество, да, Иван Николаевич?
— Почему же непременно ничтожество? Может, из тебя еще человек и образуется.
— А что такое человек, по-вашему?
— Не видела сейчас на экране? Объяснять надо?
Они шли молча под мелким дождичком. И Антонине казалось, что все, отовсюду, кругом, даже с экрана кино, наступают на нее, требуют, настаивают, сердятся.
— Ах, господи! — нечаянно громко вздохнула она.
— Ты о чем?
— Глупости все, — грустно произнесла Антонина. — Подумала, как глупо, бездарно прожита жизнь…
Сидоров промолчал, но Антонине показалось, что какая-то самодовольная улыбка мелькнула на его губах. «И чего радуется? — сердито подумала она. — Еще, между прочим, посмотрим, прожита или вовсе не начата!»
Дома, едва они пришли, раздался звонок, приехала нянька Полина, с баулом, с сундучком, с кошелками. Она была растерянная, потная, с прилипшими ко лбу волосами. Федя, оставленный у соседей, влетел в переднюю с воплем, Полина подхватила его на руки, он обнял ее за шею. Антонина понесла нянькины вещи к себе в комнату.
— Кто это? — крикнул Сидоров из столовой.
— Няня Поля! — крикнула Антонина.
— Хозяин? — шепотом спросила няня. — Это хозяин, Антонина Никодимовна?
— Тут все хозяева, — шепотом же ответила Антонина. — И Женя хозяйка, и я, и он… Все. Понятно?
Нянька разделась и пошла по комнатам, по будущему своему хозяйству. Антонина все ей показывала. На следующий день они вдвоем, взяв с собой еще Федю, поехали по рынкам покупать кроватку, ванночку, одеяльца. Женя все собиралась, да так и прособиралась — ничего не успела, не было даже достаточного количества пеленок. Нянька очень ворчала. Целый день Антонина металась между комбинатом и квартирой, между своей работой и безалаберным хозяйством Жени. Сидоров был очень занят, да, впрочем, узнав, что у Жени «состояние хорошее», передоверил все хлопоты Антонине. Под вечер Антонина, совершенно измученная, поехала в родильный дом. Женя лежала осунувшаяся, гордая и всем довольная. Девочка была хорошенькая, крепенькая, совершенно не похожая ни на Женю, ни на Сидорова.