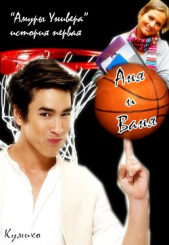Арифметика любви

Арифметика любви читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно. Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Почти невероятно. А так. По Невскому ни один из этих «светских» Русских профессоров не доходил до… Александрийского театра. Сколько было сомнений, колебаний и страха, когда мы предложили одному из них пойти с нами на эврипидовского «Ипполита»! И страх победил. Не вышло.
Страх этот был какого-то сложного порядка, не один прямой страх перед «начальством». На Собраниях, явно «дозволенных», они все же говорили с оглядкой и озираньем.
Высшее начальство держало себя, действительно, начальством. «Либеральный» митрополит Антоний подчиненных принимал лишь по вызову. А вызов — означал выговор, который провинившееся духовное или «светское» лицо выслушивало стоя и удалялось затем молча.
Епископ Сергий для большинства молодых доцентов, ему подчиненных, был старым товарищем: они помнили его Ваней Старогородским. Помнили про себя, конечно, теперь и для них он — только «владыка».
Нам было тем труднее понять внутренние иерархические отношения в этом мире, что к интеллигентам, внезапно вторгшимся в мир церковный, высшие «носители сана» были крайне терпимы и любезно-снисходительны (говорю о встречах вне Собраний). У других, как у необыкновенно-«ученого», толстогубого, грубого, черного гиганта, архимандрита Антонина, — было какое-то своеобразное, любопытствующее тщеславие, с примесью природного озорства. «Непримиримые» — это уязвленный, ущемленный и злой архимандрит Сергий; или еще Феофан (впоследствии он ввел Распутина в Царскую семью, но раскаялся и за раскаянье был выслан). На Собраниях часто можно было заметить его черную голову с гладкими, точно приклеенными волосами. Не говорил он ни разу. И пошедших к «светскому» обществу, особенно молодых профессоров, своих однокашников, осуждал.
Мы бывали в Лавре и у епископа Сергия, и у митрополита. Всегда только нашей группой, т. е. «интеллигентской»: никто из «зависимых» не приглашался. У Сергия, в пустой зале, с архиерейскими по стенам портретами, до льдистости сверкал паркет; в столовой, где тоненькие послушники подавали чай с вареньем, мы мирно обсуждали какой-нибудь проект доклада для Собраний. В Сергии было тихое, безвольное благолепие. Он, что называется, «не простирался вперед…».
В митрополичьих покоях — пышность и торжественность. Туда нам не сопутствовал не только никто из наших друзей-церковников, но даже из белого духовенства никого не было. Полукругом, около блистающего бриллиантовым крестом клобука митрополита, высились клобуки черные. Когда медленным и красивым жестом Антоний белый клобук снимал (перед чтением), — тотчас снимались, взлетая крыльями, и черные. Чай разносили не послушники, а ливрейные лакеи. Розанов мне на ухо шептал: «А варенье-то засахаренное… у Сергия лучше».
Там читал Мережковский (перед чтением в Собрании) свой реферат «Гоголь и о. Матфей». Очень резкий и даже «дерзновенный» реферат.
Но с каким благосклонным терпением его выслушали. И столь же тихие, благолепные были потом разговоры. Все возражали, и даже не стесненно; только без малейшей горячности, и вообразить какую-нибудь горячность здесь было невозможно.
На Розанова эта атмосфера подействовала одеревеняюще. Выходя, он опять зашептал: «Да что они говорили? Ничего не помню…».
Духовному лицу, чтобы прочесть на Собрании доклад, надо было раньше представить его митрополиту. Но никто не дерзал. Сунулся было раз священник Альбов — запретили. И, собственно, докладов с церковной стороны у нас не было, — только ответы. «Как бы» ответы, конечно, ибо духовенство говорило много, пространно, иногда совсем не на тему. Не могу дать списка священников-участников — слишком он длинен. Скажу лишь, что группа «32», известная своей деятельностью во время революции 1905 г., почти вся состояла из лиц, принимавших в Собраниях близкое участие.
Некоторые живы и теперь. Судьба их разнообразна…
Об Антонине, тогда архимандрите, мне уже приходилось писать. Мы его хорошо знали, так как он всей своей честолюбиво-тщеславной стороной прилепился к Собраниям и к «светской» среде. Захаживал к нам нередко. Сдружился с секретарем Собраний Егоровым (впоследствии и секретарем «Нового Пути»). Рекомендуя Егорова, Тернавцев весело хохотал: «Лучше и не выдумать секретаря. Ловкий пес! Удивительный! Шестидесятник; ни в Бога, ни в черта не верует!». Какой он там был «шестидесятник» — трудно сказать, но уменье его обращаться с «попами» и дружба с Антонином, тогдашним духовным цензором, были, действительно, полезны. Дружба закадычная; вместе ходили по трактирам, а запрут лаврские ворота, — Антонин к Егорову ночевать.
Между приятелями было что-то общее. Грубоватость какая-то ди-коватость. А, может быть, и то, что Антонин тоже «ни в Бога, ни в черта» особенно не веровал. Бурный казак-гигант, бешено честолюбивый и самоуверенный, он не без цинизма это и высказывал своеобразными намеками. В Собраниях он был другим. Во всеоружии своей «ученнос-ти», — но всегда очень резок. И тут выступала его, может быть, главная и страшная черта: неутолимая жестокость. В ней даже чувствовалось что-то ненормальное, сумасшедшее. Особенно сказалось это в заседаниях «О свободе совести». Даже епископ Иннокентий, тоже не сладкий владыка, с пугающей, совершенно львиной наружностью, говорил тогда о свободе мягче.
Этот доклад С. Волконского («Свобода совести»), написанный по реальному поводу (притеснения сектантов, речь Михаила Стаховича на Орловском съезде), послужил лишь новым толчком для развития и углубления все той же темы: о церкви, самодержавии, о силе и насилии. Третий вечер был прямо «О силе и насилии в христианстве». Л так как все это захватывало самую живую и близкую для духовенства реальную жизнь, то можно себе представить, как остры были прения. На нашей стороне разногласий, конечно, не было. Из священников лишь два были за свободу, т. е. два высказались, а были, конечно, другие, нам известные, молодые, которые не могли не стоять за свободу веры (совести), только они молчали. Выступившие смело — это Черкасский и прот. Устинский (самый замечательный священник и человек, о котором следовало бы написать особо. Он был не петербургский). Кроме этих двух, говорили человек 6–7 (имен я не пишу). Они называли «требование отмены уголовного наказания за отпадения от православия — антицерковным». Вселенская церковь — это русская церковь. «Мы благословляем государственную власть в России, которая, начиная с помазанника Божия… и кончая слугами его, всеми этими губернаторами, исправниками, становыми и урядниками, идет на помощь Ц., пока она, наконец, не оправится» (!). А прот. С. еще прямее: «…на протяжении всей истории только Государственная власть сдерживала совершение величайшего беззакония — разрушение Церкви…».
Я выписываю эти слова не из отчетов, а из «Мисс. Обозрения», которое, не медля, речи данных ораторов напечатало. Произнесены они были гораздо мягче, осторожнее. Иереи данного типа уже начали понимать, что Собраниям для подобных проповедей не место, что сочувствия аудитории они не вызовут, а только, Бог весть, какие еще ответы со стороны светской. Загоняли же Василия Михайловича (Скворцова), а публика поддержала.
Наша сторона, к этому времени, не то, что окрепла, но приобрела некоторый навык в обращении к новой среде, а также научилась иначе трактовать вопросы. Публика, состоявшая теперь большею частью из молодежи (академические студенты туда прямо рвались), неизменно сочувствовала стороне «интеллигенции». Кстати сказать: эта сторона все реже звала себя «интеллигенцией». Ведь из учредителей разве один только Миролюбов не считался «отщепенцем» (хотя и неизвестно почему). Кроме того, сами вопросы очень расширились; и теперь чаще говорилось, вместо «интеллигенция и церковь», — «культурное общество и церковь».
Этим представителям культурного общества аудитория (т. е. не говорящие члены) и сочувствовала; не аплодисментами, — Боже сохрани, их не водилось, — однако выражено было сочувствие очень ясно; в отчетах это лишь мало передающие отметки: «голос», «голоса», «все говорят», «шум».
Так как учредители Собраний, или вообще ядро их, или (для удобства говоря), «мы», — почти все были писатели, то следует сказать два слова о «литературной» среде этого периода. Ее, в точном смысле, не было. Уже к концу века исчезли, вместе с большими писателями старой формации, и старые литературные кружки. Новое же литературное поколение, декадентство, быстро вылившееся в символизм (всяких оттенков), — своей обособленной, чисто литературной среды не имело. Мы не переставали заниматься литературой, занимаясь Собраниями. Но и вся новая литература в Петербурге имела тогда к Собраниям касательство, более близкое — или менее. «Северного Вестника» уже не было: он погиб на заре символизма. Но был другой журнал, нового типа — культурно эстетический «Мир Искусства», — отнюдь не отделенный ни от символизма и символистов, ни, далее, от розанов-ских «воскресений», — ни от Собраний. Тесный кружок — ядро журнала — посещал Собрания в полном своем составе. Некоторые лица бывали и на частных наших совещаниях.