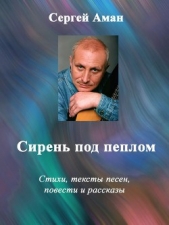Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень
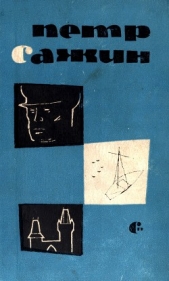
Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень читать книгу онлайн
В книгу Петра Сажина вошли две повести - «Капитан Кирибеев», «Трамонтана» и роман «Сирень».Повесть «Капитан Кирибеев» знакомит читателя с увлекательной, полной опасности и испытаний жизнью советских китобоев на Тихом океане. Главным действующим лицом ее является капитан китобойного судна Степан Кирибеев - человек сильной воли, трезвого ума и необычайной энергии.В повести «Трамонтана» писатель рассказывает о примечательной судьбе азовского рыбака Александра Шматько, сильного и яркого человека. За неуемность характера, за ненависть к чиновникам и бюрократам, за нетерпимость к человеческим порокам жители рыбачьей слободки прозвали его «Тримунтаном» (так азовские рыбаки называют северо-восточный ветер - трамонтана, отличающийся огромной силой и всегда оставляющий после себя чудесную безоблачную погоду).Героями романа «Сирень» являются советский офицер, танкист Гаврилов, и чешская девушка Либуше. Они любят друг друга, но после войны им приходится расстаться. Гаврилов возвращается в родную Москву. Либуше остается в Праге. Оба они сохраняют верность друг другу и в конце концов снова встречаются. Для настоящего издания роман дополнен и переработан.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она поплавала, поплавала, да к берегу. Вышла, одной рукой груди прикрывает а другой за юбку, а сама вся вздрагивает, как олененок. Схватила юбку и словно нырнула в нее — через голову надела. Потом кофту. Расчесала волосы, заплела их в косу и с припевкой пошла полоскать белье.
Пока она купалась и одевалась, я не дышал и глаз с нее не спускал; сердце у меня, вроде нашего мотора, остановилось, а язык к нёбу прилип. Но как начала она белье полоскать, меня что–то подхватило, быдто там, на сердце, ураган поднялся, я словно охмелел: в голове кружение, а сам я весь какой–то легкий, вот–вот вознесусь. Взял я дудку и заиграл. Она, как услышала, встрепенулась, глаза во — как яблоки — стали. Смотрит на меня и не знает, как себя вести. Краси–ива — на миллион! А я играю да глаз с нее не свожу. Вдруг она как бросит полоскание, руки в бока и кричит:
— Эй, дударь, ты откуда взялся?
— Из станицы, — сказал я.
— Давно тут?
— Только шо…
— Врешь?
— Чего мне врать–то?
— Побожись!
— Лопни мои глаза!
— Смотри, и лопнут, если неправду сказал! Чей ты?
— Донсковых».
— Каких Донсковых…, их тут полстаницы… Рыжего Григория, что ли?
— А ты чья?
— Чья?! — с удивлением, словно не ждала моего вопроса, спросила она и завлекательно так засмеялась. И, быдто от стыда, отвернулась, взяла коромысло на плечо и сказала: — Я отцова да мамина.
И опять головку опустила и засмеялась звонко, как поддужный колокольчик.
— А звать–то тебя как? — спросил я.
Она не ответила, резво так, в полный ветер, пошла наверх. Вышла, остановилась и крикнула:
— Угадай!
И опять засмеялась. И пока не скрылась из виду, все оглядывалась. А я стоял как мачта без парусов иль, проще сказать, как дурак…
55
Откуда она такая взялась? В станице я не встречал ее. Приезжая? Это могло быть. Война с германцем второй год шла, беженцы и до наших краев докатились. В общем, ничего я не узнал в тот день. Ходил как в тумане. На другой день, чуть зарделся свет, я на реку. Но напрасно ожидал ее… Не пришла она и на следующее и на другое утро… С неделю я как подранок ходил. А потом плюнул и перестал. Попросился у Григория Матвеева с батраками в гирла — там камыш и чакан рубили. Но и там покоя мне не было: с трудом неделю прожил, — засела она у меня в голове, как заноза в большом пальце. Ну, не можу, до смерти хочется увидеть ее!..
— Что ж, увидели вы ее? — спросил я.
— Увидел, — сказал Данилыч, — и скоро.
— На старом месте?
— Нет, в церкви…
— То есть как это?.. Венчалась она или…
— Нет! На троицу, во время службы…
— А-а…
— Ну да… Я, правда, богомол–то хреновый, сроду не бил поклонов и рукой не махал… Да и тут случился в церкви со скуки… Ее не сразу заметил. Собирался уходить… Даже, скажу уже больше, пробирался назад, вдруг увидел ее: она стояла слева, там, где у нас бабы стоят… В церкви она показалась мне еще красивше. Только лицо у нее было какое–то сумельное, будто вину на себе какую чувствовала. Когда меня увидела, вся вспыхнула, словно через верхнее оконце утренним лучиком ее осветило. Губки поджала. Глазыньки опустила. Шепчет молитвы чи шо другое. Я как увидел ее, постоял для прилику минут десять и, как говорится, полный назад. Ну, не можу стоять в церкви: кажется мне, что все на меня смотрят, все догадываются, отчего я краснею. Ушел. Но покоя не обрел, не мог от церкви отчепиться: тянет глянуть на нее. Долго ходил около церкви и все ругал себя за то, что ушел, за то, что не дал ей понять, шо хочу встретиться. И вместе думал: «А как дать ей понять- то?..» Ты думаешь, Лексаныч, это легко? Ты сам–то когда переживал это?
— Переживал, — со вздохом сказал я, — да еще как 1
Ну вот! Это со стороны все легко, а когда коснется тебя, так дураком становишься… Пождал–пождал я ее в церковной ограде возле акаций, да не выдержал, ушел… Но скоро вернулся. В станице праздник, а у меня на душе черти в чехарду играют. Ругаю себя: зачем ушел, не узнал, кто она такая?
Когда обедня кончилась, народ повалил из церкви так густо, что ее, наверно, затерли…
После обеда я ушел из дому, ходил, глазел, как другие веселятся, и не заметил, как очутился на реке, в том месте, где первый раз ее встретил.
Лег в траву, вытащил дуду и давай под соловья подделываться. Оно, наверно, смешно было: слух у меня, як у вола. Скоро я сам заметил фальшу и бросил играть. Встал, решил в станицу идти. Немного прошел, как увидел, кто–то, согнувшись по–бабьи, цветы собирает, Я скрылся в траве: «Кто бы это мог быть?» Только поднял голову, гляжу, а это она! Идет прямо на меня, Я поднялся. Она, как увидела меня, вскрикнула «Ай!» — словно босой ногой на ежа угодила, и припустилась бежать. Ну тут я не сплоховал, прижал рукой талисмант и во весь дух за ней. Как ветер, летел… — Данилыч на миг остановился и, кинув взгляд на культю, сказал: — Ты шо, Лексаныч, глядишь? Тогда я об двух ногах был и бегал, как донской трехлеток… Да! Ну, догнал ее не скоро — она тоже легкая на рысь. Да, но не в том дело! Догнал, а не знаю, шо сказать и шо делать–то, руки у меня быдто ватные. Ну, баб–то я знал. Да то бабы, а это девушка.
«Ну, что, — опрашивает она, — догнал?.. А чего тебе надо?! Чего смотришь на меня, как валух?»
А и верно, я стою, как валух: сердце заходится от колотьев, и весь–то я как кипятком ошпаренный. Дышу как паровоз. Посмотрела она на меня да как засмеется.
«Теленок ты», — говорит. И припустилась бежать.
Я не тронулся с места. Она сбежала эдак метров на двадцать, остановилась и опять как засмеется: «Теленок!»
Ты меня не знаешь, Лексапыч, не выдержал я: «Теленок, — говорю, — я! Ну погоди, ты узнаешь, какой я теленок!»
Долго я бежал, уже мόчи не хватало, а она все несется как птица. Но тоже не больше меня паруса на полный ветер держала, начала, как говорится, потихоньку рифы брать. Сперва смеялась надо мной, а тут пошла покрикивать: «Чего тебе надо? Что бежишь за мной? Вот я…»
Когда между нами оставалось не больше двух–трех метров, она споткнулась и с размаху растянулась. Я, не ожидая такого конца, упал прямо на нее. Она охнула и замахнулась на меня. А я обнял ее да в губы… Она первая опомнилась — выскользнула из моих рук, как линь. И не успел я толком понять, как все это произошло, она кинулась ко мне с кулаками: «Вот тебе! Не будешь хулиганничать!» Как это со мной случилось, что я очутился под ней, доси не понимаю. А она знай колотит, словно цепом по снопу: «Дурак! Дурак! Вот тебе! Вот тебе!»
Она бьет, а мне не больно… Тоись больно, но тая боль какая–то вроде сладкая… А она красная вся, растрепанная, но красивая — любо смотреть. Ну, я и засмотрелся, а она как даст мне леща, ладонь–то у нее хотя и женская, да сильная, — в ухе звон, как на соборной колокольне. Я вскрикнул. Она заплакала. Я стал утешать ее. Ну, она не отогнала меня и не убежала…
Данилыч глубоко вздохнул.
— Да-а, — продолжал он, охваченный воспоминаниями, — просидели мы с ней в энтот день до самой лягушечьей зари. Узнал я, кто она и откудова. Звали ее Дуняшей. Была она шестой дочкой бедного казака Семена Глушенкова, озорного человека, грубого, красивого, похожего на цыгана. Он был хоть и беден, да щеголь, носил золотую серьгу в ухе, тонкого сукна шаровары с кантом. Про него говорили, шо он того, с атаманшей баловался, от нее, мол, и серьга и сукно. Казак он был действительно лихой, шашкой действовал, как жонглер в цирке. Лошадь у него текинской породы; отец его, видишь ли, у генерала Скобелева служил и оттуда, из Азии, привел ахалтекинскую кобылу, и повелись в станице эти лошади. Они выносливее калмыцких и донских.
Но не в лошадях дело–то, а в дочках… Чего так смотришь, Лексаныч? В старое–то время знаешь, шесть дочек–то? Это шесть приданых! Худо–бедно, а каждой по одеяле да по подушке надо было… Вот Семен–то Глушенков с того и был злой. Да и как ему было не злиться? Он на войну–то с первым эшелоном отправился. Перед тем как нам с Дуняшей познакомиться, он с двумя «Георгиями», но без руки вернулся в станицу. Хорошо, шо не без правой! Храбрый казак, но дурак немалый. Вернулся и просватал Дуняшу, как ты думаешь, за кого? И не угадаешь. За Кондрата…