Том 9. Учитель музыки
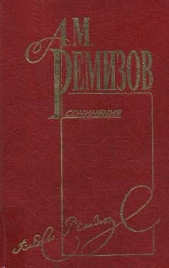
Том 9. Учитель музыки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А никуда я не хожу – много всяких «потому что».
Потому что редкий вечер, засидевшись куда за полночь, не спохватишься, как мало часов и сколько бы надо часов, чтобы все мои затеянные дела переделать; а тут еще и моя медлительность: над каждым делом, и самым несложным, я должен непременно копаться, а, стало быть, мне часов требуется гораздо больше, чем другим и совсем не «скоропалитным»; а если вспомнить, что есть еще и на всякий день еще обязательное «потерянное» время – на кухне, то и при всем желании не больно расходишься.
А еще я никуда не хожу, потому что незачем.
Не люблю веселых дураков, с которыми равняется восторженный болтун; не люблю анекдоты – «пустое время», не люблю – как передаются и принимаются сплетни.
По Гоголю люди делятся на «человека-бабу» и «человека-не-бабу»: человек-баба верит больше слуху о человеке, чем самому человеку; человек-не-баба верит человеку, а не слуху о человеке; «когда человек-баба, говорит Гоголь, торжественно заявит, что он больше ничего, как баба, то тотчас и перестанет быть человеком-бабой!» – чего, добавлю от себя, никогда не бывает; а ведь этой «бабой» земля выбабилась, и что может быть паскуднее…
Не люблю легкости, которая стоит грубости, а человек-легкий и человек-грубый – такими на свет родятся и уж ничего, сама исправительная каторга не исправит, и против которых нет защиты.
Не люблю выспрашивающих и всегда корыстно и советчиков, которым до тебя нет никакого дела. А если вспомнить и всю тяготу возвращения домой – ожидание автобуса, и как всегда холодно, и от ветра не спрячешься, нет, ходить по гостям – пропащее время.
Вот и сижу дома.
Конечно, по беде-то бедовой, и хочешь-не-хочешь, а должен и несмотря ни на что – никогда я не помирюсь, но смиряюсь. Конечно, есть и исключения: старичок пушкинист Сергей Сергеич – и нет никакой «физической» возможности, а выберешься, или к тому же баснописцу Куковникову или к библиофилу Галкину: им-то хорошо известны все мои природные недостатки и моя жалоба на ограниченность и краткость часов – и никогда не посетуют, если проходит месяц и другой и третий, а меня нет.
Признаюсь, посули мне Птицин рассказать случай не из «Вия», а из «Шпоньки», я бы еще подумал, во всяком случае несвойственной мне быстроты не обнаружил бы, хотя Птицины не за горой, не надо никакого автобуса. И вовсе не потому, чтобы не ценил я «Шпоньку» – произведение блестяще-законченной формы, а для дураков «без конца».
И вот в дождь, а я иду к Птицину.
Я иду по нашей рю Дотой, глядя себе под ноги, чтобы не поскользнуться, но весь я – в «Вии», которого перечитал за всю мою странную болезнь с высокой температурой, но без всякой боли.
Вий! Вий – не «черт» с рогами, хвостом и копытом, и никакой «демон», не оперный и не монастырский, Вий – это сама завязь, исток и испод – живое сердце жизни, «темный корень» жизни, земляная, неистовая, непобедимая сила, «вверху которой едва ли носится дух Божий», слепая – потому что беспощадная, и глазастая – потому что безошибочная в выборе, обрекая на гибель, из ею же зачатого на земле среди самого косного и самого совершенного, не пощадившая однажды и самое совершеннейшее, Вий – а Достоевский скажет: Тарантул.
Весь охваченный Вием, я вдруг увидел себя забившимся за иконостас, невидимым для подземных крылатых чудовищ с отвратительными липкими, залупленными хвостами, и все различающим из-за своей засады в трепещущей от свечей, облитой светом церкви в третью и последнюю роковую ночь: я видел, высоко со стены из перепутанных волос-паутины два светящихся глаза с поднятыми немного вверх бровями и над ними, дрожа, спускались клещи и жала из стеклом-переливающейся, налитой, как пузырь, голова-груди тарантула; я видел синюю, оскаленную, стучащую зубами и взвизгивающую – а еще так недавно «страшную сверкающую красоту» – простирая руки, задыхаясь от мести, она ловила; я видел, как философ, этот избранный ею из бестий бестия, песенный кентавр, посмевший наперекор ее воле смертельно прикоснуться к ней, избранной и вещей, к ее «резкой сверкающей красоте», в первую мертвую ночь открывшей ему всю вину его, когда поглядела на него закрытыми глазами и из-под ресницы ее правого глаза покатилась слеза, и он ясно различил на щеке ее, но это была не слеза, а капля крови, и обезумев от страха, подгрудным голосом, как во сне и исступлении, не различая букв, перепутав все строчки и забыв все псалмы, он не кричал уж, а давясь, дико выл, вывывая – «Ой, у поли могыла»… я видел Гоголя, какая грозная тишина в его виновных глазах! как много пережглось в нем и все было растерзано – приближалась расплата; я видел, как в затихшую и вдруг присмиревшую церковь под отдаленный вой волков – нет, как будто выл кто-то здесь – ввели косолапого дюжего человека: он был, как корень, весь в земле, прилипшей к нему комками, отваливавшимися густо запекшейся кровью, тяжело ступал он, длинные веки опущены до самой земли, а лицо у него было железное; его привели под-руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Гоголь –
Птицин встретил меня необыкновенным случаем – но без этого он не может: такова его природа выдумщика. В прошлый раз «история о генералах», которую он пишет по примеру Тентетникова, о генералах не «вообще» и не в «общности», а гражданской войны: ученый комитет, образовавшийся в Париже, для выработки юбилейной программы «обильного пищепитания мышей»; Лифарь и Куковников с его таинственным пакетом с подтопкой для камина; а теперь Сергей Сергеевич: старичок пушкинист Сергей Сергеич «опился дешевым молоком!»
– И надо же, что и у Годфрэна и в молочной против и в той, что против знаменитой булочной Гошэ и в «лявишер» молоко – двадцать сантимов литр. Сергей Сергеич и повадился: где литр, где пол-литра. Африканский доктор говорит, случай неизвестный в медицине: откачивали, как утопленника!
Но я пришел не за молочными чудесами, а за обещанным случаем из «Вия». – Птицин спохватился: «Вия» он нарочно перечитал, но он никак не похож на «философа» и никакого за ним нет преступления, чтобы наперекор – не помнит в своей жизни никакого полета, и ни в какие заклинания не верит, и, как всем известно, непьющий.
– Большое несчастье для нас: умерла мадам Рожье! Вы ее помните? Пять лет она приходила к нам. Последние годы два раза в неделю. На нее все можно было оставить и с деньгами не торопит: всегда подождет, когда будут. Теперь мы все сами. На кухне висит ее «таблие», не трогаем, вроде как живое, рука не подымается. В последний раз оба мы вышли, оставив ее убирать, а вернулись, ее уж нет, кончила и ушла. Так и ушла. От ее мужа получили письмо, что грипп: 41,3. Плохо, думаем, 41, да еще 3, не выдержит. Прошла неделя, ждем, и другая, а на третью – извещение с черной каймой: Мадам Рожье, 39 лет, и всякие подробности и где похороны и где должны собраться проводить. Сижу я ночью на кухне – ночью я на кухне курю, и вдруг чувствую, сзади подходит – а вижу я ее перед собой, как отражение, идет по коридору. И мне нисколько не страшно. Кротости она была необычайной, за пять лет ни разу я не рассердился на нее. И мне вспомнилось, как она рассказывала, что дома она всегда поет, но какой у нее голос, мы так и не слыхали, а судя по тому, как она чихала, голос у нее был полный, скорее низкий. И еще мне припомнилось, она говорила, что много читает, а когда я ее спросил о Пэги или слышала она что об Андрэ Жиде и известен ли ей один из искуснейших современных поэтов Поль Элюар, оказалось, имена эти ей незнакомы, впервые слышит, а читает она «les romans policiers» 278, а кто автор, не помнит. Она шла по коридору, не глядя, и вдруг остановилась, увидала меня, – «Мосье!» – И во вторую ночь, опять за папиросой, я почувствовал, опять – и вижу, подходит – как всегда, она кротко смотрела, ясно было, она видела меня. Глаза у нее обреченные, но сама она этого не замечала, и когда однажды я спросил: может быть, у нее что-нибудь с сердцем? – такой взгляд я замечал у сердечных больных, или было очень тяжелое в жизни, почему она так смотрит – эта кротость и такая глубокая печаль? «Нет, – сказала она, – я всегда веселая, и если было трудно… в войну редкий день не приходилось высиживаться в погребе (она из Па-де-Калэ), но вот когда после войны захворал муж, да, было очень трудно». Она не профессиональная фамдеменаж, лишь временно взялась за работу, а когда дела поправились, ходила только к нам, не хотелось оставлять, привыкла; и даже в манерах ее появилось что-то мое. «Нет, мне и во сне ничего не снится, а с гостями в кафе я одна разговариваю и всех занимаю, и только в таких случаях курю!» Вспомнив ее рассказы, я невольно показал на папиросы – так живо я ее видел. – «Мосье!..» она этого не сказала, но губы ее шевельнулись. – А на третью ночь, в день похорон, войдя в кухню, я потрогал висевшее ее «таблие», я сделал это так, а до тех пор не решался, я был взбаламучен своим «каторжным» и вообще «человеческим». И за папиросой я раздумывал о подлой человеческой материи, о подлости самого основного вещества человеческой породы – изобретательная жадность, обман, вероломство, лицемерие, – ну, скажите, есть ли что еще паскуднее, как «всеобщая жертва», этот призыв к человеческому благородству, или как часто теперь повторяемое, что… «и всем тяжело»: жертву всегда приносили только те, у кого и без того хребет надломлен, а ссылка на «всех», нисколько не поправляя дела, утешает только говорящих, а авторитетнейший и безапелляционный «глас народа», пустивший в мир столько клеветы?.. И вдруг я почувствовал, подходит. И увидел: она шла по коридору, как и в первую и вторую ночь, но совсем не так, как в те ночи: она как-то на носках скользила, опускаясь на каблуки и притоптывая, руки она держала перед собой, пальцы ее были напряженно вытянуты и весь ее негритянский индефризабль вздыбился, как от ветра, лицо без кровинки с синими, как впадины, подглазницами, никакой кротости, никакой желанности в ее ужаснувшемся взгляде – видела она меня или не видела, но я видел, что идет уверенно прямо на меня. И я не выдержал, поднялся, погасил электричество и, не обертываясь, тихонько вышел из кухни. – И что меня поразило: такая воплощенная кротость и вдруг так измениться! Я смотрю очень трезво, я не верю ни в какие привидения, но как объяснить… или это взбудораженная ожесточенная моя мысль так ужасно извратила кроткий человеческий образ?
























