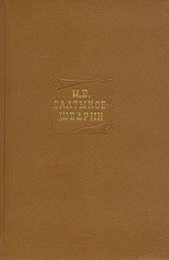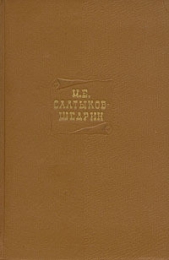Том 5. Критика и публицистика 1856-1864
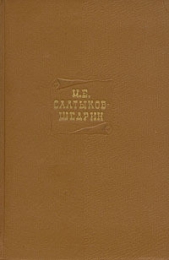
Том 5. Критика и публицистика 1856-1864 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В пятый том настоящего издания входят критика и публицистика Салтыкова 1856–1864 годов, кроме отнесенных в следующий, шестой том «хроник» из цикла «Наша общественная жизнь», примыкающих к этому циклу статей «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне», а также материалов журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эти неурядицы и человеческие страдания, которым они дают начало, до такой степени красноречиво говорят сами за себя, что перед их красноречием не устоит никакая преднамеренная неправда. Художник может дать им тот или другой исход по своему усмотрению, может даже, впоследствии, неуместными своими размышлениями совершенно испортить нарисованную картину, но оболгать факт, по воплотить его в иной форме, нежели та, в которой он является в жизни, он не властен. Здесь вся суть заключается единственно в непосредственной силе таланта, и чем выше эта последняя, тем более даст она правды читателю, даже, быть может, и помимо воли самого художника *.
Вот в этом-то последнем смысле произведения г-жи Кохановской и имеют свой неоспоримый интерес. В том маленьком мире, который ею избран, она является полною хозяйкою. Она не только коротко знает его, но сама постоянно является как бы действующим в нем лицом. Все его тревоги, все его радости, в ее глазах совсем не маленькие тревоги и пошлые радости, которые можно выставить напоказ, как более или менее забавные уклонения, но тревоги и радости настоящие, выросшие в меру человеческого роста. Нужды нет, что не раз, по поводу описываемых столкновений, невольно задаешься вопросом: да из-за чего ж это люди мучат себя, или не пустякам ли они радуются? дело не в том, чем человек огорчается и чем утешается, а в том, что в этих радостях и огорчениях, как бы ни казались они ничтожными сами по себе, все-таки пробивается наружу человек. Здесь симпатии автора к изображаемым лицам совершенно понятны и законны, ибо они относятся не столько к отдельным личностям, сколько к той общечеловеческой основе, которая и в них сказывается, к тому просветленному человеческому образу, который везде находит себе выход, несмотря на затмения и наносы жизни.
Всех повестей г-жи Кохановской, являющихся ныне особым изданием, четыре: «После обеда в гостях», «Из провинциальной галереи портретов», «Гайка» и «Настасья Дмитрова и Кирила Петров». Есть еще два рассказа: «Старина» и «Давняя встреча», но об них мы не будем говорить, потому что тут уже выступает вперед не творчество, а исключительно резонерство автора. Лучшие и наиболее характеристические повести две: «После обеда в гостях» и «Настасья Дмитрова и Кирила Петров». Ими мы и займемся.
Первая из них вводит нас в быт мелкопоместного русского дворянства, быт бедный и неразнообразный, но описанный г-жою Кохановскою теми ясными чертами, при посредстве которых самая бедность содержания исчезает и в сознании читателя восстает целый мир, мир своеобразный, но совсем не уродливый. Этот мир не чужд нам; нечто подобное ему мы прошли в эпохи нашего детства и отрочества: это мир неполного знания, мир смутных ощущений, в которых человек не дает себе отчета, во-первых, потому, что не чувствует еще в том настоятельной потребности, а во-вторых, потому, что не умеет, как за это взяться. Человек свежий, не избитый жизнью, бывает легко доступен впечатлениям, но зато эти впечатления как бы скользят по нем, быстро сменяясь одно другим. Радость и горе бывают равно сильны, но вместе с тем и равно скоротечны, почти бесследны. Вот почему в мире детском и в этом другом мире, который описывает г-жа Кохановская и который так близко подходит к детскому, жизнь представляется, в общем своем строе, почти безразличною, и вот почему требуется очень много талантливой наблюдательности, а еще более сердечной памяти, чтобы воспроизвести эту жизнь осязательно и дать почувствовать читателю почти неуловимые ее света и тени.
Такою-то именно светозарною, самонаслаждающеюся представляет пред нами талантливая писательница жизнь молодой девушки в том бедном, но все-таки досужем быту, который она избрала предметом своих исследований. Это жизнь, которая заставляет девушку говорить: «Кажется, что краше-то тебя, молодой, и во всем мире нет! Идешь, земли под собою не слышишь»; эта жизнь — нескончаемая русская песня, та песня, о которой одно из вводных лиц повести так типично выражается: «Спой ты мне, матушка, такую песню, чтоб Замошников, Лукьян Алексеевич, не усидел, не улежал». Песня, в буквальном смысле, составляет все содержание молодого существования; ею оно начинается с той самой минуты, когда еще ребенком девушка приходит к сознанию самой себя, ею оно и кончается. Вот как описывает г-жа Кохановская эту песню:
За последнее время объявись у него, у Черного, новая песня, да ведь какая песня! Ни старые, ни бывалые люди отроду не слыхивали той песни, и как запоет он своим заливным голосом ту протяжную песню, просто душу у тебя силой берет, да и всё тут! Отец протопоп, старый же человек и степенный, что ему песня? — а он сидел под окном и слушал да слушал, как недалечко Черный пел; а далее опомнился, а у него, у отца протопопа, борода в слезах (сама матушка протопопша говорила), так он даже перекрестился. «Господи Иисусе Христе! сказал, вот песня!»
— Но какая же песня? — говорила я Любови Архиповне.
— Да она будто не невесть какая и не мудреная, и всей-то ее, матушка, видеть нечего:
— Песня-то и вся тут, — говорила Любовь Архиповна, — да что сидело в той песне, как Черный ее протяжно да переливно, идучи по городу, пел по вечерней заре… И еще как надойдет над гору и станет на ней, а внизу
река в половодье разлилась, шумит, и он стоит, матушка, и поет: расплескалася, разливалася, — просто, говорили люди, отца и мать бы забыл и всё слушал его!..
— Как же, родная моя! Черному проходу не стало по городу. Купцы, как завидят его, из лавок выбегают навстречу. «Ваша милость, отец родной! Воздохну… Что хочешь из лавки бери, спой только Воздохну»… «Что ж, братцы, — говорил Черный, — не продажная. Самому дорого стоит. Удастся вам послушать, случаем, ваше счастие, а не удастся, не прогневайтесь». Так вот, чтоб удалось это счастие, за Черным по сту глаз смотрели. Чуть он заложил руки назад и пошел по городу, тотчас со всех сторон, присадясь и пригинаясь под плетнями, за ним следом и потянуло человек пятнадцать или двадцать. У хозяев над рекою все плетни по огородам осадили, лазая через них, затем, что, значит, эти места облюбил Черный и уже заливался тут своим «Воздохну».
Признаемся, мы никогда не могли прочесть это место без сильного внутреннего волнения, и отнюдь не полагаем, чтобы чувство это было лишено своего серьезного значения. Нет, оно объясняется, и объясняется весьма рационально, ибо в основе его лежит не что иное, как внутренняя связь с народною массою, тою массою, которая до сих пор ни в чем еще не успела проявить себя, кроме упорного труда и песни. Нам часто случается высокомерно относиться к непосредственным проявлениям народной жизни, даже и тогда, когда мы заявляем себя сторонниками ее; ее предрассудки и верования кажутся нам ничтожными, чуть не презрительными; но такое отношение к народу едва ли справедливо, и во всяком случае никак не расчетливо. Скажем более: поступая таким образом, мы противоречим самим себе, противоречим своим убеждениям и целям, мы делаем совсем не то дело, которое хотим делать. Если мы действительно сочувствуем народным массам, мы должны брать их так, как они есть, мы должны принять за исходную точку нашей деятельности тот нравственный и умственный уровень, на котором они стоят, и из него уже отправляться далее. Наша роль — роль пропагандистов-образователей, но ведь понятно, что, прежде нежели приняться за пропаганду, надо изучить, понять и прочувствовать ту почву, на которую имеет пасть наша пропаганда. Иначе народные массы отвернутся от нас, и вся наша деятельность, как бы ни была она разумна, исчезнет в пустоте. Итак, источник сочувствия к народной жизни, с ее даже темными сторонами, заключается отнюдь не в признании ее абсолютной непогрешимости и нормальности (как это допускается славянофилами), а в том, что она составляет конечную цель истории, что в ней одной заключается все будущее благо, что она и в настоящем заключает в себе единственный базис, помимо которого никакая человеческая деятельность немыслима *.