Сумерки божков
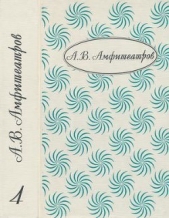
Сумерки божков читать книгу онлайн
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нэ моя, так нычья!
Надежда Филаретовна каталась по полу в истерике, а Берлога тем временем порядком-таки истек кровью. Полиции объяснили скандал несчастным случаем, раненого отвезли в больницу. Богема же окончательно распалась, потому что терпение арендатора лопнуло, и он опустошил «Воронье гнездо», выселив всех его обитателей даже не в 24 часа, а в 24 минуты.
Надежда Филаретовна навещала Берлогу в больнице. Раньше между ними никакого романа не было, но тут они сперва подружились, потом влюбились. А, может быть, сперва влюбились, потом подружились. Сближала их и личная симпатия двух красивых, богато одаренных натур, и случайность только что пережитой вместе «драмы», и, главное, общее стремление к искусству. Берлога едва начал тогда учиться пению и еще не знал, что из этого выйдет. Надежда же Филаретовна затем и в Москву приехала из Одессы, чтобы, поработав над богатейшим контральто своим у знаменитого Гальвани, превратиться из хористки в примадонну и начать артистическую карьеру уже всерьез. Под влиянием ее Берлога начал понимать самого себя, открыл свой артистический, если еще не талант, то первый инстинкт, нашел тот фанатический порыв к искусству, ту святую радость жречества, которыми затем наполнилась вся его жизнь…[381]
Вышло, значит, так, что стали они любовниками, поселились в общей квартирке. Когда Надежда Филаретовна сделалась беременна, то женились. Надо заметить: Надежда Филаретовна не настаивала на браке этом. Но двадцатилетний Берлога почел долгом чести дать свое имя ожидаемому ребенку. Перед свадьбою бедного Берлогу, как водится, засыпали добрые люди сплетнями, анонимами, предостережениями, — обычное предисловие к бракам, в которых жених предполагается по юности неопытным и глупым, а невеста — не первой молодости, свежести и «с прошлым». Но все эти предубеждения не открыли Берлоге ничего нового — такого, в чем еще раньше не призналась бы ему, что скрывала бы о себе сама Надежда Филаретовна. Был между женихом и невестою день торжественного всепокаяния, когда оба они рассказали друг другу всю жизнь свою, и клятвенно условились, что отныне все прошлое зачеркнуто и не существует для них, будто и не бывало, а надо устроить хорошее общее настоящее да работать, уповая на еще лучшее будущее. Правда, минутами Берлоге казалось, что Надежда Филаретовна как будто не договорила чего-то и, порою, будто висят у нее на языке какие-то новые, нужные слова, совсем бы готовые сорваться вслух, но — вдруг — струсит, застыдится, спрячется, уйдет в себя… Но — то были бегучие, пролетные минуты, и жених не придавал им большого значения. Нана призналась ему во всех своих молодых грехах и ошибках, назвала ему всех людей, которых она раньше его любила и которым принадлежала. Он знал, что она имела уже двоих детей, к счастию для нее, для него, да, вероятно, и для них самих, умерших вскоре по рождении. Какими еще признаниями могла она отяготить такой солидный обвинительный акт? Раз мужчина помирился с подобным накоплением, чем еще его смутишь и испугаешь?
Обвенчались. Месяца два спустя родился ребенок — и, не дожив года, помер от менингита… Надежда Филаретовна была страшно потрясена смертью этого младенца. Она не имела сил отвезти мертвое дитя свое на кладбище. Отец один присутствовал, когда маленький розовый гробик исчез под широким, блестящим заступом в яркой желтой земле. Возвратясь с кладбища, Берлога, к изумлению и ужасу своему, нашел жену без чувств, распростертою на полу… пылающую, храпящую…
— Отравилась?!
Бросился к приятелю-соседу по номерам, молодому, только что кончившему курс медику. Тот пришел, освидетельствовал.
— Кой черт — отравилась? Она просто мертвецки пьяна.
И пошло это изо дня в день на целую неделю… Берлога очень жалел жену. Пьянство ее он приписывал — естественно — порыву материнского отчаяния, горю по напрасно погибшей малютке.
— Не убивайся, Нана, — умолял он ее в светлые промежутки. — Ну что же делать? Невозвратимо. Мы молоды. У нас будут еще дети…
Нана мрачно качала головою.
— Зачем? Чтобы землю ими удобрять? Оставь! Мои дети не живут. Третье так умирает. Я поганая. Проклято мое материнство. Оставь меня! Не хочу!..
А пьяная бросалась к нему, страстно нежничала, ревела:
— Дай мне дитя! Ты обязан! Я не могу иначе. Ты — мой муж, я твоя жена! Я должна иметь ребенка, — я должна доказать тебе, что я не мерзавка. Сделай мне ребенка! Не хочешь? Значит, ты брезгуешь мною?.. Ха-ха-ха! Фу-ты ну-ты, пан какой!.. А я тебе докажу… я тебе себя докажу!.. Я не поганая!.. Почище тебя найдутся, не побрезгуют, за честь почтут… Идиот!
Рвалась куда-то бежать, называла какие-то имена, кричала каких-то мужчин, — надо было бороться с нею, чтобы не ушла, двери на ключ запирать, держать ее за руки.
Трудно было молодому мужу — самолюбивому, гордому, начавшему уже освещаться тем общественным и женским успехом, что затем сопутствовала ему — ему! Андрею Берлоге! — чрез всю его триумфальную жизнь. Но он и сам был уверен, и врачи ему говорили, что дикое поведение Надежды Филаретовны — скоропреходящий результат сложного нервного аффекта: испуг от истории с огнестрельным армянином, трудные роды, послеродовые анормальности, смерть ребенка… Мало-помалу, — словно река, взбунтованная вешним половодьем и после ледохода мирно входящая в берега, — Надежда Филаретовна стихла, вытрезвилась. Возвратилась к обычному своему обществу и занятиям, усердно брала уроки музыки и пения, еще усерднее помогала в том же своему молодому мужу. А об его голосе и таланте уже заговорили в Москве…
Берлога был искренно и спокойно счастлив. Когда поостыло пламя первой, молодой, физической страстности, влюбленно соединившей эту пару, когда супруги вгляделись и каждый в самого себя, и оба друг в друга, они не нашли в себе глубокого чувства, которое таинственным инстинктом слагает союзы, неразрывные на всю жизнь. Но они очень пришлись друг другу по душе, характеру, быту, привычкам, надеждам, стремлениям, пристрастиям. Расцветающая молодость мужа и еще не отцветшая молодость жены дружили весело, красиво, в том немножко насмешливом кокетстве, в том резвом супружеском флирте, какими бывают полны все русские браки по любви, покуда муж и жена чувствуют себя бодрыми товарищами, не отравились горечами борьбы за существование, не утомились взаимными уступками, не озлились, не заворчали, не наполнили жизни своей кислым недовольством, ревностью, рабством, злорадными вызовами взаимной требовательности, угрюмою неудовлетворенностью обоюдных разочарований. Жена нравилась Берлоге — и как женщина, и как человек, и как товарищ. Единственно что смущало его в ней, это — какая-то странная, насмешливая, почти презрительная лень, которую Надежда Филаретовна начала теперь являть решительно во всем, что ее лично касалось. Она будто не верила в возможность, что из нее может выйти что-нибудь хорошее, словно знала за собою что-то такое тайное и непременное, что в конце концов, как deus ex machina [382], выскочит поперек каждой житейской тропинки, какую она изберет, всему помешает, все опутает и погубит. При великолепном голосе и несомненном артистическом темпераменте, она и в пении своем не шла далее грубого первобытного дилетантизма. Когда муж работал, помогала ему внимательно, с любовью, аккомпанировала ему на рояле, строгая, как немецкий педант, давала отличные советы, охотно и остроумно решала вместе с ним задачи по теории музыки. Но сама только и любила, что кричать цыганские песни да ловкими карикатурами передразнивать всякого певца и певицу, которых слышала. Берлога бранит жену, — Надежда Филаретовна хохочет:
— Отстань! Это мне пригодится, когда я буду этуалью в кафешантане. [383]
Заговорят при Надежнее Филаретовне о чудесной, ясной красоте ее, — она взглянет в зеркало и лениво отпустит милое словцо:
— Ребята хвалили!
Повторит кто-нибудь умную, пикантную остроту ее, похвалит красивую мысль, — она кривляется:
— Мне ума во сто лет не пропить!
Однажды Берлога встретил в ресторане старого почтенного человека, барина-шестидесятника, которого он очень любил и уважал, потому что тот некогда высвободил сапожного подмастерья, мальчишку Андрюшку, из кабалы у довольно свирепого хозяина-немца и поместил в гимназию на какую-то, от него зависевшую, стипендию. С того Берлога и жить начал. Последние годы благодетель Берлоги проживал далеко от Москвы, где-то на юге, с воспитанником своим не видался, не переписывался. Очень оба обрадовались свидеться — и старик, и молодой. И пошли между ними расспросы.
























