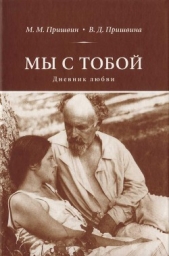Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком

Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком читать книгу онлайн
Во первый том восьмитомного Собрания сочинений М. М. Пришвина помещены его ранние произведения, в том числе такие известные, как «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком» и другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Живи как знаешь! – говорит и помор.
Я изумляюсь этой жизни еще более, чем на Мурмане Кильдинскому королю. Там хоть какая-нибудь зелень, тут – ничего.
– Вот русским бы поморам такую школу! – говорю я.
– Не-ет, нам нельзя. Нам из-за бабы нельзя. Наша баба не пойдет. Норвеженка живет одна, ей хоть бы что, а нашей бабе нужна баба, а той бабе еще баба. Так из-за баб живем мы кучами, а в одиночку не годимся.
Один домик, в котором мы взяли бочонок с рыбьим жиром, совсем висит над водой.
– Вишь, – указывает помор, когда мы отъехали подальше, – смотри: вырос на воде, живет на камне, в воду глядит, что чайка…
Вдруг он хватает меня за руку.
– Смотри! Кит!
Я оглядываюсь в сторону океана, кита не вижу, но замечаю довольно большой водоворот. Где же кит?
– В воду ушел, вон его юро видно.
Немного спустя показывается громадное черное блестящее чудовище. Весь экипаж смотрит на кита. Вероятно, это и здесь редкость.
А Петр Петрович рассказывает мне такой интересный факт из жизни рыбаков: недалеко отсюда есть разрушенный китовый завод, и еще подальше тоже. Заводы были разрушены рыбаками не очень давно. По мнению русских и норвежских поморов, кит гонит треску к берегу и является этим благодетелем рыбаков. Когда возникли китобойные заводы и богатые капиталисты стали массами истреблять китов, то уменьшился и рыбный промысел. Поморы подали в стортинг прошение о сокращении китового промысла. Ответа не последовало. Подали в другой раз. Ответ был отрицательный. Тогда поморы, соединившись, разрушили китобойные заводы. Зачинщиков арестовали, но немного спустя разобрали, в чем дело, и освободили. Китобойный промысел в виде опыта запретили на десять лет, а издержки по разрушенным заводам были покрыты на счет государства.
– И вот опять теперь стали киты показываться, – закончил свой рассказ Петр Петрович. – Теперь часто видят, и трески больше, и всем хорошо.
Пока мы так беседуем, на палубу входят толстый почтовый чиновник и Бисмарк и, очень недружелюбно на меня посматривая, начинают играть в серсо. Каждый из них берет по пяти довольно больших веревочных кружков и по очереди попадают ими на поставленный шагах в десяти деревянный шпиль. Это моцион для полных, серьезных людей. Совсем как немцы в Германии. Не могу же я представить себе Петра Петровича, бросающего веревочный крендель на острие.
Мы скромно становимся в сторону и наблюдаем. Ужасно плохо попадают, а кажется – так легко. Но они такие толстые, неуклюжие, у Бисмарка кривые ноги. Вот бы им показать! Я не выдерживаю, беру себе пять кренделей и хочу бросить. Оба чиновника мгновенно оставляют игру и уходят на нос парохода.
Теперь ясно, что меня принимают за шпиона. Я вдруг вспоминаю о том, что с фотографическим аппаратом меня видели возле крепости. Рассказываю Петру Петровичу об этом, и он мне опять повторяет, как то же было с художником, как его мучили и с каким дурным чувством он покинул Норвегию.
Что делать? Не обращать внимания? Но как не обращать внимания, когда для меня весь смысл этого отдаленного путешествия состоит в том, чтобы из постоянного общения с людьми узнавать местную жизнь. Что будет со мной, когда Петр Петрович сойдет на свою шкуну? Побросав все крендели, я сажусь на вязку канатов и начинаю грустно разглядывать белеющие паруса судов в океане. Мне припоминаются почему-то встречные лошаденки на большой дороге по бескрайной равнине средней России. Бредет лошаденка, мужик в телеге, какие-то мешки, кожи. Проплывет лошаденка, как случайный образ на бездумье, и опять то же безвольное расплывчатое состояние без мыслей. Да что же это? Спохватишься… Начнешь раздумывать: куда бы мог ехать этот мужик, зачем?
Тут, на Крайнем Севере, в Норвегии, я вдруг ловлю себя где-то у нас, на большой дороге…
Если бы все искренно писать, о чем думаешь в дороге, то, может быть, вместо севера вышел бы юг. Я ловлю себя на большой дороге. Но здесь океан, вот на горизонте бегут суда, совсем похожие на белые чайки.
– Куда бежит это судно?
– В Китай.
– Вот так дорога! А это?
– В Шестопалиху.
– Это?
– В Питер.
Бог знает что… Я пытаюсь разъяснить себе, зачем могут пускаться парусные суда в такое дальнее плавание. И, к своему изумлению, узнаю, что Китай находится здесь около Нордкина; Питер тоже, Шестопалиха вовсе близко, тут же есть какие-то «бирки с крутяками», есть Танин-фиорд, есть Васин-фиорд.
Все это русские названия в Норвегии. Все это места, где русские обмениваются с норвежцами товарами. В особенности останавливает мое внимание мыс, известный под именем «Северной Тонкой». Отсюда раньше русские промышленники, отправляясь на промыслы зверей на Грумант (Шпицберген), здесь сворачивали в океан. Про эти места они сложили известную на Севере песню грумаланов:
Возле этого мыса помор мне показывает длинную полоску впереди, вдавшуюся в океан, и говорит:
– Нордкап!
Если бы он не сказал, то я бы не обратил внимания на эту чуть видную полоску земли, но вот теперь смотрю не отрываясь.
– Что там смотреть-то, – говорит мой спутник, – голые горы, темень и ничего. А едут…
Он рассказывает, как из Норвегии отправляют сюда «гулебные» пароходы с англичанами; приехав к Нордкапу, туристы при звуках музыки входят наверх, раскидывают там палатки и сидят, смотрят на солнце. Помор, остановившись раз со своим судном в ближайшем рыбацком поселке, видел, как одного седого старика вели под руки на Нордкап.
– Этот народ маленько того… хоть бы зверь аль птица, а то голые скалы, темень, ничего…
Мне хочется заступиться за туристов и за этого старика, которого под руки вели на Нордкап. Ведь все эти мертвые пустыни оживляются только туристами. Ведь благодаря им мертвый Нордкап ожил и стал что-то значить для каждого.
Почему это, спрашиваю я себя, мне так интересно видеть Нордкап, а помору нисколько?
Вопрос откладывается до вечера. Сейчас зовут обедать, потом мы будем у Нордкина и оттуда яснее разглядим Нордкап.
Сидеть рядом с людьми, которые считают меня за шпиона, ежеминутно передавать и получать тарелочки с закуской, с соусом, с этими бесчисленными приправами, как это бывает всегда за границей, и еще приговаривать при этом: «Vaer saa god». Это невыносимо.
Скрепя сердце, конечно, можно кое-как досидеть до конца обеда, тем более что норвежский язык мне совсем непонятен. Пусть говорят, что хотят. Но вот наступает продолжительный антракт между первым и вторым блюдом, я вижу, как бесцеремонно разглядывают меня и перекидываются словами: «Offizier. Offizier…» Терпение мое лопается. Я произношу горячую речь на немецком языке. Говорю, как трудно живется в России, как хочется побывать в такой стране, как Норвегия, как у нас любят ее, страну великих писателей, музыкантов, путешественников, как своей мелкой подозрительностью они унижают свою родину, разрушают то, что сделал народ и великие люди. Кончив свою речь, я хочу подсчитать результат. Все, кроме лоцмана, сконфужены, упрямый старик, вероятно, мало понял из моей немецкой речи, спрашивает что-то у Бисмарка. Тот переводит, а лоцман слушает и поглядывает на меня и наконец отчетливо произносит:
– Anar-r-rchist!
Другая крайность! И тоже, как я угадываю, здесь очень несимпатичная.
– Ну, пусть анархист, – отвечаю я, – у вас же можно иметь такие убеждения. Вот Ибсен был тоже анархистом.
На меня все набрасываются. Ибсен был анархистом! Напротив, капитан даже помнит, как он приезжал к ним в народную школу и читал детям свои произведения.
Они даже немного возмущены и обижены, а я вспоминаю, что Ибсен убежал из Норвегии и всю жизнь скитался вне своей родины. А теперь вот обижаются при малейшем намеке на его неблагонадежность.