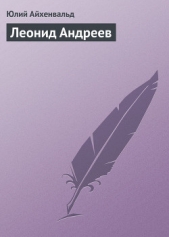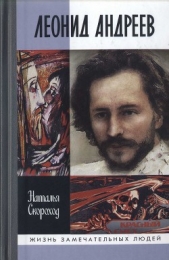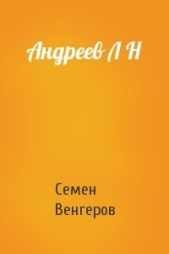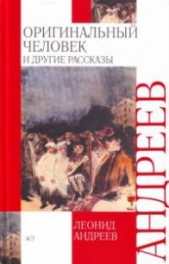Том 1. Рассказы 1898-1903

Том 1. Рассказы 1898-1903 читать книгу онлайн
В первый том собрания сочинений вошли рассказы 1898–1903 гг.
Вступительная статья А.В. Богданова. Комментарии В.Н. Чувакова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не плачь, родная, — просил он, — плакать не нужно, плакать не о чем.
— Твое сердце… И я останусь одна во всем мире. Одна, о боже!
Писатель погладил рукою склонившуюся к его коленям голову и сказал:
— Смотри.
Слезы мешали глядеть ей, и частые строки рукописи двигались волнами, ломались и расплывались в ее глазах.
— Смотри! — повторил он. — Вот мое сердце. И оно навсегда останется с тобою.
Это было так жалко, когда умирающий человек думал жить в своей книге, что еще чаще и крупнее стали слезы его жены. Ей нужно было живое сердце, а не мертвая книга, которую читают все: чужие, равнодушные и нелюбящие.
Книгу стали печатать. Называлась она «В защиту обездоленных».
Наборщики разорвали рукопись по клочкам, и каждый набирал только свой клочок, который начинался иногда с половины слова и не имел смысла. Так, в слове «любовь» — «лю» осталось у одного, а «бовь» досталось другому, но это не имело значения, так как они никогда не читали того, что набирают.
— Чтоб ему пусто было, этому писаке! Вот анафемский почерк! — сказал один и, морщась от гнева и нетерпения, закрыл глаза рукою. Пальцы руки были черны от свинцовой пыли, на молодом лице лежали темные свинцовые тени, и когда рабочий отхаркнулся и плюнул, слюна его была окрашена в тот же темный и мертвенный цвет.
Другой наборщик, тоже молодой — тут старых не было — вылавливал с быстротою и ловкостью обезьяны нужные буквы и тихонько пел:
Дальше слов песни он не знал, и мотив у него был свой: однообразный и бесхитростно печальный, как шорох ветра в осенней листве.
Остальные молчали, кашляли и выплевывали темную слюну. Над каждым горела электрическая лампочка, а там дальше, за стеною из проволочной сетки, вырисовывались темные силуэты отдыхающих машин. Они выжидательно вытягивали узловатые черные руки и тяжелыми, угрюмыми массами давили асфальтовый пол. Их было много, и пугливо прижималась к ним молчаливая тьма, полная скрытой энергии, затаенного говора и силы.
Книги пестрыми рядами стояли на полках, и за ними не видно было стен; книги высокими грудами лежали на полу; и позади магазина, в двух темных комнатах, лежали все книги, книги. И казалось, что безмолвно содрогается и рвется наружу скованная ими человеческая мысль, и никогда не было в этом царстве книг настоящей тишины и настоящего покоя.
Седобородый господин с благородным выражением лица почтительно говорил с кем-то по телефону, шепотом выругался: «идиоты», и крикнул:
— Мишка! — и, когда мальчик вошел, сделал лицо неблагородным и свирепым и погрозил пальцем. — Тебе сколько раз кричать? Мерзавец!
Мальчик испуганно моргал глазами, и седобородый господин успокоился. Ногой и рукой он выдвинул тяжелую связку книг, хотел поднять ее одною рукою — но сразу не мог и кинул ее обратно на пол.
— Вот отнеси к Егору Ивановичу.
Мальчик взял обеими руками за связку и не поднял.
— Живо! — крикнул господин.
Мальчик поднял и понес.
На тротуаре Мишка толкал прохожих, и его погнали на середину улицы, где снег был коричневый и вязкий, как песок. Тяжелая кипа давила ему спину, и он шатался; извозчики кричали на него, и когда он вспомнил, сколько ему еще идти, он испугался и подумал, что сейчас умрет. Он спустил связку с плеч и, глядя на нее, заплакал.
— Ты чего плачешь? — спросил прохожий.
Мишка плакал. Скоро собралась толпа, пришел сердитый городовой с саблей и пистолетом, взял Мишку и книги и все вместе повез на извозчике в участок.
— Что там? — спросил дежурный околоточный надзиратель, отрываясь от бумаги, которую он составлял.
— Неподсильная ноша, ваше благородие, — ответил сердитый городовой и ткнул Мишку вперед.
Околоточный вытянул вверх одну руку, так что сустав хрустнул, и потом другую; потом поочередно вытянул ноги в широких лакированных сапогах. Глядя боком. сверху вниз, на мальчика, он выбросил ряд вопросов:
— Кто? Откуда? Звание? По какому делу?
И Мишка дал ряд ответов:
— Мишка. Крестьянин. Двенадцать лет. Хозяин послал.
Околоточный подошел к связке, все еще потягиваясь на ходу, отставляя ноги назад и выпячивая грудь, густо вздохнул и слегка приподнял книги.
— Ого! — сказал он с удовольствием.
Оберточная бумага на краю оборвалась, околоточный отогнул ее и прочел заглавие: «В защиту обездоленных».
— Ну-ка, ты, — позвал он Мишку пальцем. — Прочти.
Мишка моргнул глазами и ответил:
— Я неграмотный.
Околоточный засмеялся:
— Ха-ха-ха!
Пришел небритый паспортист, дыхнул на Мишку водкой и луком и тоже засмеялся:
— Ха-ха-ха!
А потом составили протокол, и Мишка поставил под ним крестик.
1901 г.
Бездна *
Уже кончался день, а они двое все шли, все говорили и не замечали ни времени, ни дороги. Впереди, на пологом холме, темнела небольшая роща, и сквозь ветви деревьев красным раскаленным углем пылало солнце, зажигало воздух и весь его превращало в огненную золотистую пыль. Так близко и так ярко было солнце, что все кругом словно исчезало, а оно только одно оставалось, окрашивало дорогу и ровняло ее. Глазам идущих стало больно, они повернули назад, и сразу перед ними все потухло, стало спокойным и ясным, маленьким и отчетливым. Где-то далеко, за версту или больше, красный закат выхватил высокий ствол сосны, и он горел среди зелени, как свеча в темной комнате; багровым налетом покрылась впереди дорога, на которой теперь каждый камень отбрасывал длинную черную тень, да золотисто-красным ореолом светились волоса девушки, пронизанные солнечными лучами. Один тонкий вьющийся волос отделился от других и вился и колебался в воздухе, как золотая паутинка.
И то, что впереди стало темно, не прервало и не изменило их разговора. Такой же ясный, задушевный и тихий, он лился спокойным потоком и был все об одном: о силе, красоте и бессмертии любви. Оба они были очень молоды: девушке было всего семнадцать лет, Немовецкому на четыре года больше, и оба они были в ученической форме: она в скромном коричневом платье гимназистки, он в красивой форме студента-технолога. И как и речь, все у них было молодое, красивое и чистое: стройные, гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом и родные ему, легкая упругая поступь и свежие голоса, даже в простых словах звучавшие задумчивой нежностью, так, как звенит ручей в тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снег сошел с темных полей.
Они шли, сворачивали там, где сворачивала незнакомая дорога, и две длинные, постепенно утончающиеся тени, смешные от маленьких головок, то раздельно двигались впереди, то сбоку сливались в одну узкую и длинную, как тень тополя, полосу. Но они не видели теней и говорили, и, говоря, он не сводил глаз с ее красивого лица, на котором розовый закат точно оставил часть своих нежных красок, а она смотрела вниз, на тропинку, отталкивала зонтиком маленькие камешки и следила, как из-под темного платья равномерно выдвигался то один, то другой острый кончик маленькой ботинки.
Дорогу пересекла канава с пыльными, обвалившимися от ходьбы краями, и они на миг остановились. Зиночка подняла голову, обвела вокруг затуманенным взглядом и спросила:
— Вы знаете, где мы? Я здесь ни разу не была.
Он внимательно оглядел местность.
— Да, знаю. Там, за этим бугром, город. Давайте руку, я вам помогу.
Он протянул руку, нерабочую руку, тонкую и белую, как у женщины. Зиночке было весело, ей хотелось перепрыгнуть канаву самой, побежать, крикнуть: «Догоняйте!» — но она сдержалась, слегка, с важной благодарностью наклонила голову и немного боязливо протянула руку, сохранившую еще нежную припухлость детской руки. А ему хотелось до боли сжать эту трепетную ручку, но он также сдержался, с полупоклоном, почтительно принял ее и скромно отвернулся, когда у всходившей девушки слегка приоткрылась нога.