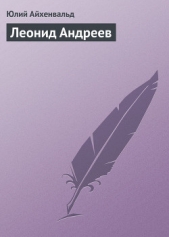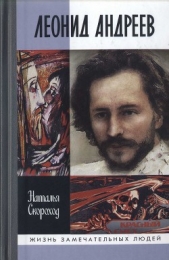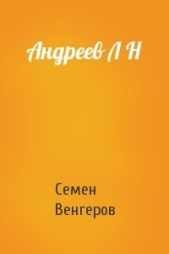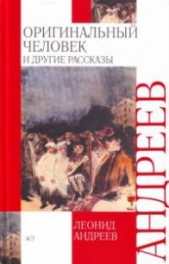Том 1. Рассказы 1898-1903

Том 1. Рассказы 1898-1903 читать книгу онлайн
В первый том собрания сочинений вошли рассказы 1898–1903 гг.
Вступительная статья А.В. Богданова. Комментарии В.Н. Чувакова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Около двери наступила тишина. Хижняков послушал еще немного и лег, обрадованный, что пришли не к нему и не за ним, и не стараясь разгадать, что было в случившемся для него непонятного. Он уже начинал чувствовать приближение ночи, и ему хотелось, чтобы кто-нибудь посильнее пустил лампу. Покой проходил, и, стискивая зубы, он старался удержать мысль; в прошлом была грязь, падение и ужас — и тот же ужас был в будущем. Он уж постепенно начинал сжиматься, подпрятывать ноги и руки, когда вошла Дуняша, уже одетая для выхода в красную блузу и слегка пьяная. Она размашисто села на кровать и всплеснула короткими руками:
— Ах ты, господи! — и она повела головой и засмеялась. — Ребеночка принесли. Такой маленький, а орет, как пристав. Ей-Богу, как пристав!
Она блаженно выругалась и кокетливо щелкнула Хижнякова по носу.
— Пойдем смотреть. Ей-Богу, а то что же? Посмотрим, да все тут. Матрена его купать хочет, самовар поставила. Абрам Петрович сапогом раздувает — потеха! А ребеночек кричит: уау, уау…
Дуняша сделала лицо таким, как, по ее предположению, у ребенка, и еще раз пропищала:
— Уау! Уау! Чисто пристав. Ей-Богу! Пойдем. Не хочешь — ну и черт с тобой! Издыхай тут, яблоко мороженое.
И, приплясывая, она вышла. А через полчаса, качаясь на слабых ногах и придерживаясь пальцами за косяки, Хижняков нерешительно приоткрыл дверь в кухню.
— Затворяй, настудишь! — крикнул Абрам Петрович.
Хижняков быстро захлопнул за собой дверь и виновато оглянулся, но никто не обращал на него внимания, и он успокоился. В кухне было жарко от печки, самовара и людей, и пар густыми клубами подымался и ползал по холодным стенам. Матрена, сердитая и строгая, купала в корыте ребенка и корявой рукой плескала на него воду, приговаривая:
— Агунюшки! Агунюшки! Чистенькие будем, беленькие будем.
Оттого ли, что в кухне было светло и весело, или вода была теплая и ласкала, но ребенок молчал и морщил красное личико, точно собираясь чихнуть. Дуняша через плечо Матрены заглядывала в корыто и, улучив минуту, быстро, тремя пальцами плеснула на ребенка.
— Уйди! — грозно крикнула старуха. — Куда лезешь? Без тебя знают, что делать, свои дети были.
— Не мешай. Это точно, — подтвердил Абрам Петрович. — Ребенок дело тонкое, это кто как умеет обращаться.
Он сидел на столе и с снисхождительным удовольствием смотрел на маленькое розовое тельце. Ребенок пошевелил пальчиками, и Дуняша в диком восторге замотала головой и захохотала.
— Чисто пристав, ей-Богу!
— А ты пристава в корыте видела? — спросил Абрам Петрович.
Все засмеялись, и Хижняков улыбнулся, но тотчас испуганно сорвал с лица улыбку и оглянулся на мать. Она устало сидела на лавке, откинув голову назад, и черные глаза ее, сделавшиеся огромными от болезни и страданий, светились спокойным блеском, а на бледных губах блуждала горделивая улыбка матери. И, увидев это, Хижняков засмеялся одиноким, запоздалым смехом:
— Хи-хи-хи!
И так же гордо оглянулся по сторонам. Матрена вынула ребенка из корыта и обернула простыней. Он залился звонким плачем, но скоро смолк, и Матрена, отворачивая простыню, конфузливо улыбнулась и сказала:
— Тельце-то какое, чисто бархат.
— Дай попробовать, — попросила Дуняша.
— Еще что?
Дуняша внезапно затряслась всем телом и, топая ногами, задыхаясь от жадности, безумная от охватившего ее желания, закричала высоким голосом, которого у нее не слыхал никто:
— Дай!.. Дай!.. Дай!..
— Дайте же ей! — испуганно попросила Наталья Владимировна. Так же внезапно успокоившись и перейдя на улыбку, Дуняша осторожно двумя пальцами прикоснулась к плечику ребенка, а за ней, снисходительно щурясь, потянулся к этому алевшему плечику и Абрам Петрович.
— Это точно. Ребенок дело тонкое, — сказал он, оправдываясь.
После всех попробовал Хижняков. Пальцы его на миг ощутили прикосновение чего-то живого, пушистого, как бархат, и такого нежного и слабого, что пальцы сделались как будто чужими и тоже нежными. И так, вытянув шеи, бессознательно озаряясь улыбкой странного счастья, стояли они, вор, проститутка и одинокий, погибший человек, и эта маленькая жизнь, слабая, как огонек в степи, смутно звала их куда-то и что-то обещала, красивое, светлое и бессмертное. И гордо глядела на них счастливая мать, а вверху, от низкого потолка, тяжелой каменной громадой подымался дом, и в высоких комнатах его бродили богатые, скучающие люди.
Пришла ночь. Пришла она черная, злая, как все ночи, и тьмой раскинулась по далеким снежным полям, и в страхе застыли одинокие ветви деревьев, те, что первые приветствуют восходящее солнце. Слабым огнем светильников боролись с ней люди, но, сильная и злая, она опоясывала одинокие огни безысходным кругом и мраком наполняла человеческие сердца. И во многих сердцах потушила она слабые тлеющие искры.
Хижняков не спал. Сложившись в крохотный комок, он прятался от холода и ночи под мягкой грудой тряпья и плакал — без усилия, без боли и содроганий, как плачут те, у кого сердце чисто и безгрешно, как у детей. Он жалел себя, сжавшегося в комок, и ему чудилось, что он жалеет всех людей и всю человеческую жизнь, и в этом чувстве была таинственная и глубокая радость. Он видел ребенка, который родился, и ему казалось, что это родился он сам для новой жизни, и жить будет долго, и жизнь его будет прекрасна. Он любил и жалел эту новую жизнь, и это было так радостно, что он засмеялся, встряхнул груду тряпья и спросил:
— О чем я плачу?
И не нашел, и ответил:
— Так.
И такой глубокий смысл был в этом коротком слове, что новой волной горячих слез всколыхнулась разбитая грудь человека, жизнь которого была так печальна и одинока.
А у изголовья уже усаживалась бесшумно хищная смерть и ждала — спокойно, терпеливо, настойчиво.
Декабрь 1901 г.
Книга *
Доктор приложил трубку к голой груди больного и стал слушать: большое, непомерно разросшееся сердце неровно и глухо колотилось о ребра, всхлипывало, как бы плача, и скрипело. И это была такая полная и зловещая картина близкой смерти, что доктор подумал: «Однако!», а вслух сказал:
— Вы должны избегать волнений. Вы занимаетесь, вероятно, каким-нибудь изнурительным трудом?
— Я писатель, — ответил больной и улыбнулся. — Скажите, это опасно?
Доктор приподнял плечо и развел руками.
— Опасно, как и всякая болезнь… Лет еще пятнадцать — двадцать проживете. Вам этого хватит? — пошутил он и, с уважением к литературе, помог больному надеть рубашку. Когда рубашка была надета, лицо писателя стало слегка синеватым, и нельзя было понять, молод он или уже совсем старик. Губы его продолжали улыбаться ласково и недоверчиво.
— Благодарю на добром слове, — сказал он.
Виновато отведя глаза от доктора, он долго искал глазами, куда положить деньги за визит, и, наконец, нашел: на письменном столе, между чернильницей и бочонком для ручек, было уютное, скромное местечко. И туда положил он трехрублевую зелененькую бумажку, старую, выцветшую, взлохматившуюся бумажку.
«Теперь их новых, кажется, не делают», — подумал доктор про зелененькую бумажку и почему-то грустно покачал головой.
Через пять минут доктор выслушивал следующего, а писатель шел по улице, щурился от весеннего солнца и думал: почему все рыжие люди весною ходят по теневой стороне, а летом, когда жарко, по солнечной? Доктор тоже рыжий. Если бы он сказал пять или десять лет, а то двадцать — значит, я умру скоро. Немного страшно. Даже очень страшно, но…
Он заглянул к себе в сердце и счастливо улыбнулся. Как светит солнце! Как будто оно молодое, и ему хочется смеяться и сойти на землю.
Рукопись была толстая; листов в ней было много; по каждому листу шли маленькие убористые строчки, и каждая из них была частицею души писателя. Костлявою рукою он благоговейно перебирал страницы, и белый отсвет от бумаги падал на его лицо, как сияние, а возле на коленях стояла жена, беззвучно целовала другую костлявую и тонкую руку и плакала.