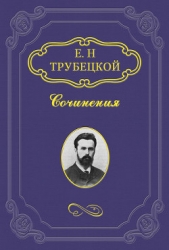Метель
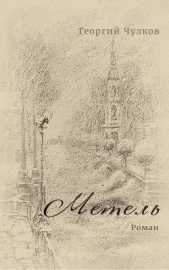
Метель читать книгу онлайн
Георгий Иванович Чулков (1879-1939) — русский поэт, прозаик, литературный критик. Роман «Метель», 1917 г.
Для обложки использована работа Ирины Бирули. Книга подготовлена журналом Фонарь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сильно заболела голова у Полянова.
— А если этот Паучинский не даст, как быть тогда? — спросил себя Александр Петрович, вдруг припомнив, что за квартиру не заплачено уже за три месяца, что через два дня должны предъявить ко взысканию вексель на тысячу рублей, что приходил вчера приказчик из мясной лавки и слишком грубо требовал денег по книжке, что, наконец, надо купить красок и полотна и это уж непременно и неотложно.
Полянов сидел на скамейке недалеко от ворот, выходящих на Неву, где скрипел, качаясь, ресторанчик-поплавок. Было около двенадцати часов. Туман рассеялся. Золотой шуршащий листопад в саду; в небе серый шелк облаков, сквозь которые светило нежаркое сентябрьское солнце; тусклые червонцы, рассыпанные по Неве едва пробившимися сквозь облака лучами: все напоминало об увядании и о какой-то предсмертной тишине.
Александру Петровичу не нравилась вовсе эта чахоточная петербургская осень.
— На юг бы теперь! — подумал он с тоской — Или в Москву что ли. Хорошо теперь, наверное, на Красной площади.
В эти минуты Александру Петровичу все казалось извращенным, испорченным и гадким: девочка, которая бежала, подгоняя палочкою серсо, была, очевидно, глупенькая кривляка; гувернантка — наверное, лицемерка и лгунья, и глаза у нее такие же фальшивые, как прическа; прошел чиновник с рыжими баками — взяточник несомненный; даже левретка, которую вела толстая барыня, была существо избалованное и отвратительное.
Александр Петрович, негодуя, нахмурился, когда кто-то назвал его по имени. Кто смеет в самом деле тревожить его в такую минуту?
Но перед ним стоял, не подозревая своей дерзости, безусый молодой человек весьма изнеженный на вид, с лицом смазливым и приторным.
— Вы меня и узнавать не хотите, — мямлил молодой человек, жеманясь.
— Нет, я вас узнал, — проговорил нерешительно Александр Петрович, припоминая фамилию молодого человека. — Вы — Сандгрен.
— Да, я Сандгрен.
Он сел на лавочку рядом с Александром Петровичем.
— Ведь, я вам не помешаю? А?
— Пожалуйста.
— Осень! Хорошо. «Есть в осени первоначальной»… Вы любите Тютчева?
— Люблю.
— Это хорошо. А то ведь художники часто совсем неграмотные, право.
Безусый молодой человек болтал с развязностью даже чрезмерною и, так сказать, наивною.
— Вы сегодня будете в «Заячьей Губе?»
— Не собирался.
— Пойдемте, право. Там сегодня будет интересно. Там ведь сегодня вернисаж и какие-то лекции будут читать, а может быть, и стихи. Только вы там никому не говорите, что я Тютчева сейчас вспомнил, а то меня засмеют.
— А вы разве из их компании?
— Отчасти. В последнем цикле стихов я очень к ним близок. Они ставят вопрос ребром. Это хорошо. Не правда ли?
— Глупости все!
Сандгрен засмеялся:
— А я бы на вашем месте непременно к этим какумеям примкнул. Со своими сверстниками вы не поладили. Вам бы назло им следовало объявить себя какумеем.
— Глупости все. А почему они называются какумеями?
— А вы разве не знаете? — оживился вдруг Сандгрен. — Это очень забавно. У Федора Сологуба есть такая строчка «голосим как умеем», а ихний самый главный поэт Зачатьевский думал, что это не глагол с союзом, а одно слово существительное в дательном падеже множественного числа — какумеям. А в именительном, значит, падеже будет какумеи. Знаете, как саддукеи, фарисеи. Теперь их все так зовут и они себя тоже какумеями называют.
И Сандгрен опять громко засмеялся.
— Неужели Паучинский не даст денег? — подумал Полянов. — Хотя бы вечер поскорее наступил! Когда этому Сусликову звонить можно? В восемь? Надо в половине восьмого позвонить на всякий случай.
Но Сандгрен не замечал рассеянности своего озабоченного собеседника.
— Пойдемте, Александр Петрович, позавтракаем на поплавке.
Полянов пошел покорно за болтливым юношей на поплавок. Когда они уселись за столик, Сандгрен заказал себе белое вино и какую-то рыбу, а Полянов графинчик водки и салат оливье.
Нева была неспокойна, ресторанчик покачивало, и от первых же рюмок у Александра Петровича закружилась голова.
— Так вы говорите, что у этих какумеев вернисаж сегодня? — спросил он смазливого юношу, который нехотя пил вино и со страхом посматривал на графинчик водки.
— Да. У них вернисаж. Мы с поплавка прямо туда. А?
— Но ведь эта «Заячья Губа» подвал? Там и окна все забиты, помнится. Как же там выставку устраивать?
— Какумеи презирают натуральный свет, знаете ли. Они теперь свои картины только при электричестве показывают. Иначе не хотят.
— А вы Паучинского не знаете? — спросил вдруг Полянов, чувствуя, что он не может не произнести сейчас этого имени.
Совершенно неожиданно для Александра Петровича оказалось, что Сандгрен знает Паучинского. У Сандгрена отец директор банка и Паучинский бывает у них в доме.
— Вот как! — совсем уж грубо засмеялся Александр Петрович, разглядывая сердито прическу своего собеседника. — А ведь этот Паучинский — ростовщик. Вы знаете?
Сандгрен, не обращая внимания на грубоватый и сердитый тон Полянова, с готовностью объяснил, что, насколько ему известно, Паучинский в самом деле ростовщик и даже беспощадный.
— А вот мне деньги нужны, — сказал Александр Петрович. — Даст мне этот Паучинский или не даст?
— Если у вас дом есть или именье, он даст, пожалуй. А без залога ни за что не даст. Вот Мишель Пифанов просил у него под какие угодно проценты пятьсот рублей — и то не дал, а у Пифанова отец директор департамента.
— Мишелю Пифанову не дал? Вот что, — прошептал Полянов, чувствуя почему-то, что если Паучинский не дал какому-то Пифанову, то и ему не даст. — А у кого же можно денег достать? А?
— Денег теперь достать нельзя, — сказал Сандгрен солидно и убежденно.
И Полянов понял, что этот юноша скоро бросит литературу и всякие кабачки и засядет, как отец, в банке, а, может быть, и деньги станет давать под верные залоги, как Паучинский.
Часа через полтора Полянов и его юный спутник входили в подвал «Заячьей Губы». Этот кабачок помещался на улице Жуковского во втором дворе старого дома, большого и мрачного. Над грязным входом красный фонарь освещал нелепый плакат, где нагая женщина, прикрывающаяся веером, смеялась нескромно. На веере была надпись: «Тут и есть Заячья Губа».
В передней было тесно. Из вентилятора дул сырой ветер. Пол затоптан был грязью. На шею к Сандгрену, лепеча какой-то вздор, тотчас же бросилась немолодая рыжая женщина, с голою шеей и грудью, похожая на ту, которая нескромно смеялась на плакате.
В подвале было шумно, пахло угаром, духами и вином. По стенам развешены были картины какумеев, но осматривать их было трудно: все было заставлено столиками. Яблоку, как говорится, негде было упасть. Однако две картины бросились все-таки в глаза Полянову. На одной несколько усеченных конусов и пирамид, робко и скучно написанных, чередовались с лошадиными ногами, разбросанными по серому холсту, не везде замазанному краскою. Картина называлась «Скачки в четвертом измерении». Другая картина носила название более скромное, а именно «Дыра». В холсте в самом деле была сделана дыра и оттуда торчала стеариновая свеча, а вокруг дыры приклеены были лоскутки сусального золота.
На эстраде стоял молодой человек, с наружностью непримечательною, но обращавший на себя внимание тем, что в ушах у него были коралловые серьги и столь длинные, что концы их соединялись под подбородком. Молодой человек этот смущался и чего-то боялся чрезвычайно, но, по-видимому, чувство некоторого публичного позора, которое он испытывал, доставляло ему своеобразное наслаждение. Этот юноша выкрикивал, вероятно, заранее выученные эксцентричный фразы, которые, впрочем, не производили большого впечатления на публику: почти все были заняты вином и лишь немногие подавали соответствующие реплики.
— Сладкогласный Пушкин и всякие господа Тицианы и разные там Бетховены довольно морочили европейцев! — выкрикивал юноша на эстраде. — Теперь мы, какумеи, пришли сказать свое слово! Восемь строчек из учителя будущего и открывателя новых слов Зачатьевского более ценны, чем вся русская литература, до нас существовавшая!