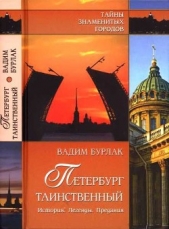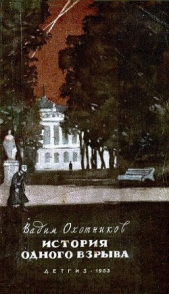История одного путешествия

История одного путешествия читать книгу онлайн
Книга Вадима Андреева, сына известного русского писателя Леонида Андреева, так же, как предыдущие его книги («Детство» и «Дикое поле»), построена на автобиографическом материале.
Трагические заблуждения молодого человека, не понявшего революции, приводят его к тяжелым ошибкам. Молодость героя проходит вдали от Родины. И только мысль о России, русский язык, русская литература помогают ему жить и работать.
Молодой герой подчас субъективен в своих оценках людей и событий. Но это не помешает ему в конце концов выбрать правильный путь. В годы второй мировой войны он становится участником французского Сопротивления. И, наконец, после долгих испытаний возвращается на Родину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
10 мая 1940 года, в тот день, когда кончилась «странная война» и немцы в Бельгии перешли в наступление, которое привело к полному разгрому французских войск, я прошел медицинскую комиссию и был признан годным для военной службы. Я ждал вызова со дня на день, — предполагалось, что нас мобилизуют не позже середины июня, но 12 июня мой завод закрылся, а через два дня Париж был занят немецкими войсками. Накануне падения Парижа, — впрочем, Париж не защищался, он был объявлен «открытым городом», — я взял велосипед и уехал на Олерон. О том, что делалось в эти дни на дорогах Франции, о так называемом «Великом исходе», я рассказал в романе «Дикое поле».
На Олероне, как и во всей Франции, в феодальные времена крестьяне обрабатывали помещичьи или монастырские земли, которые после Французской революции перешли в руки крупной буржуазии. Французский крестьянин превратился в арендатора, возделывавшего не принадлежавшую ему землю. Филоксера — вредитель виноградных лоз, — занесенная из Америки во Францию во второй половине XIX века, положила начало благосостоянию французских крестьян-виноделов: крупные владельцы виноградников начали разоряться, земля понемногу переходила к тем, кто ее обрабатывал. Это происходило медленно: в сороковых годах еще были поля и виноградники, сдававшиеся в аренду, и крестьяне жили надеждой, что вскоре и эти земли перейдут в их руки. Боязнь потерять уже приобретенную землю, нарушить договоры, которые им обеспечивали в будущем переход арендуемых полей в их собственность, была настолько велика, что, несмотря на то, что после разгрома Франции два миллиона французских солдат оказались в плену и не хватало сельскохозяйственных работников, крестьяне избегали доверять свои поля чужим рукам — слишком недавно они сами были батраками и арендаторами.
Жизнь на Олероне была трудной. К моей семье присоединилась мать жены, ее сестры с детьми — их мужья были призваны во французскую армию в самом начале войны. За стол садилось десять человек. Поначалу местные жители относились ко мне отчужденно. То, что был я русским, а не французом, их не смущало: но они прежде всего были островитяне, и все, приезжавшие с континента, казались им чужаками. Кроме того, я был «парижанином», то есть человеком незнакомым с крестьянской работой, человеком иного, городского мира, и это, пожалуй, больше всего вызывало острое недоверие. На мое счастье, правительство Петэна, проповедовавшее «возврат к земле», издало закон, согласно которому заброшенные земли переходили на девять лет в руки тех, кто возвращал их к жизни. Понемногу я превратился в безлошадного крестьянина, обрабатывавшего каменистую олеронскую землю.
Немецкая оккупация во Франции не была похожа на оккупацию в других странах. Она началась под знаком коллаборации: немцы вели себя «корректно», старались избегать конфликтов и даже грабили страну по закону: за все реквизиции и поставки платили наличными, а то, что деньги им давало французское правительство, то есть все тот же французский народ, как-то не доходило до сознания.
Сопротивление оккупационным войскам возникало очень медленно. В Париже уже в 1940 году, еще до начала войны с Россией, организовались группы людей, поставивших себе целью борьбу с гитлеровцами. Среди тех, кто первыми вступили на этот путь, необходимо отметить группу сотрудников «Музея Человека» в Париже, в которую волгли мои друзья Борис Вильде и Анатолий Левицкий, впоследствии расстрелянные немцами. Они даже оказались крестными отцами всего подпольного движения во Франции: издававшийся ими нелегальный журнальчик назывался «Resistance» («Сопротивление») — слово, объединившее всех боровшихся с оккупантами. Буржуазия острова — доктора, нотариусы, торговцы — в большинстве поддерживала правительство Петэна: страх перед коммунизмом долгое время был сильнее национальной гордости. Крестьянство оставалось нейтральным — возможность торговать с немцами была очень соблазнительной: за дюжину яиц немецкий солдат платил вдвое больше, чем они стоили на рынке. Правда, с самого начала оккупации была запрещена ночная рыбная ловля с острогой, и ночь даже в самые большие отливы больше не озарялась блуждающими звездами ацетиленовых фонарей, но дневная рыбная ловля все же оставалась доступной.
Клещи оккупации сжимались медленно, но с неумолимой последовательностью: исчезло горючее, и тракторы остановились, виноградники приходилось обрабатывать вручную; исчезла мануфактура; деньги, положенные в сберегательные кассы, обесценивались; военнопленные не возвращались из Германии; немногочисленных евреев выселили с острова — о дальнейшей их судьбе ничего не было известно. О существовании лагерей смерти ходили темные слухи, но они были столь невероятны, что казались преувеличенными.
Когда, после поражения под Москвой, немцам стало ясно, что блицкриг не удался и война затянулась и что возникновение второго европейского фронта станет неизбежным, немецкий генеральный штаб решил воздвигнуть Атлантический вал. Остров Олерон, закрывающий со стороны океана большой (портовый город Ла-Рошель и базу подводных лодок в Ла-Палис, вошел в «общую систему защиты континента». Появилась армия рабочих организации Тодта, и началась постройка прибрежных батарей. Таких батарей — дальнего обстрела, со стопятидесятидвухмиллиметровыми орудиями, местного действия и противовоздушных — на острове было двенадцать. Олерон превратился в звено огромного крепостного вала.
Постепенно стали учащаться инциденты, возникавшие между жителями и оккупационными войсками: из-за земель, отобранных у крестьян для постройки батарей: из-за все усиливавшихся реквизиции; из-за политического часа; из-за того, что столь поразившая вначале «корректность» исчезла — присущая фашистам уверенность в превосходстве немецкой расы оскорбляла французов на каждом шагу, — и, главное, из-за того, что столько раз обещанное возвращение военнопленных немцы превратили в выгодный для них обмен — за одного возвращенного военнопленного они забирали десять человек, достигших призывного возраста, на работы в Германию. Крестьяне все больше чувствовали, что они попали вместе со своими семьями и виноградниками в гигантскую тюрьму.
Во Франции партизанское движение получило прозвище «маки», от итальянского слова «чаща» (macchia). На Корсике так называются непроходимые заросли, в которых прятались знаменитые корсиканские бандиты. Во время последней войны это слово, офранцузившись окончательно, перекочевало во Францию. Главные средоточия партизанских групп находились либо в диких Севеннах, где склоны, заросшие дубняком и осинником, давали им надежное убежище, либо в скалистых Альпах, покрытых еловыми лесами, либо в Провансе, где макизары скрывались в гарригах — каменных плоскогориях, покрытых курчавыми кустами вечнозеленого дуба.
На Олероне скрыться было негде: плоский остров, вытянутый с северо-запада на юго-восток (тридцать километров в длину, двенадцать в ширину), вдоль берегов окруженный песчаными дюнами, напоминал блюдо с приподнятыми краями. Два сосновых леса — один на юге, другой посередине — не покрывали и тысячи гектаров. Мелкие заросли ясеня и осинника, иногда отделявшие одно поле от другого, проглядывались насквозь. А главное — бежать с острова на континент через Монмуссонский пролив, день и ночь охранявшийся сторожевыми судами, было почти невозможно. Говорю «почти» потому, что впоследствии, когда материк уже был освобожден, а остров остался одним из неприступных звеньев Атлантического вала, благодаря местным рыбакам, знавшим все меняющиеся мели и запруды устричных парков, такое сообщение удалось наладить.
В течение двух лет я преодолевал недоверие, которым олеронцы окружили «парижанина». Понемногу ко мне и ко всей моей семье начали привыкать. То, что никто из нас ни под каким видом ее хотел работать у немцев, сыграло свою роль. Женщины ходили в отлив собирать морские ракушки для продажи — труд неблагодарный и плохо оплачиваемый; я обрабатывал поля с тем упорством, которое только и ценили крестьяне, старшие дети учились в коммунальной школе, наша семья вписалась в общий олеронский пейзаж.