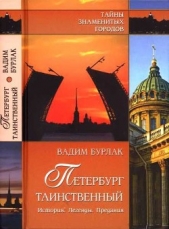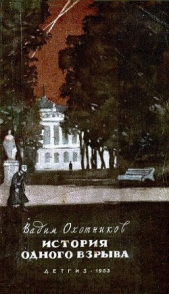История одного путешествия

История одного путешествия читать книгу онлайн
Книга Вадима Андреева, сына известного русского писателя Леонида Андреева, так же, как предыдущие его книги («Детство» и «Дикое поле»), построена на автобиографическом материале.
Трагические заблуждения молодого человека, не понявшего революции, приводят его к тяжелым ошибкам. Молодость героя проходит вдали от Родины. И только мысль о России, русский язык, русская литература помогают ему жить и работать.
Молодой герой подчас субъективен в своих оценках людей и событий. Но это не помешает ему в конце концов выбрать правильный путь. В годы второй мировой войны он становится участником французского Сопротивления. И, наконец, после долгих испытаний возвращается на Родину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Стихи не таблица умножения! — кричал он.
И дальше шла импровизация о корнях слов, о том, что в «моряных любесах» соединился целый мир — мир моря, яри, любви и бесовства.
Когда мы сцеплялись — в эти споры часто включался Юра Венус, — со стороны можно было подумать, что мы полны ненавистью друг к другу, в то время как каждый из нас стремился доказать, что другой Есенина недооценивает:
— «Не жалею, не зову, не плачу» пронзает самого тугоухого читателя…
— То-то и есть, что это стихи слишком доступные. Только то, что требует усилия…
— Постой, постой, а «Инония», посвященная пророку Иеремии?.. «Золотое словесное яйцо…»
— Да пойми ты, наконец, что для альпиниста восхождение на вершину ценно само по себе. Бели тебя на гору подбросит фуникулер — что останется от радости преодоления препятствия? Очертание дальних гор, ледники, скалы, выделяющиеся на белой подкладке снега, — все будет тебе подано, как на подносе. Сознание, не подготовленное мускульным напряжением, никогда не сможет вполне оценить красоту открывшегося перед тобой пейзажа…
И чем больше мы, споря и опровергая друг друга, в сущности соглашались, тем яростнее становилась перепалка и ни разу не поссорились, — ссориться-то действительно было не из-за чего.
После отъезда в Париж Володи и, вскоре, Ани Присмановой наша литературная группа распалась. Конечно, Сема Либерман часто бывал у Венусов, где Вуся оставалась верным участником наших встреч, но нас было уже слишком мало: берлинский фейерверк догорел весною 1924 года. Русские эмигранты, оставшиеся в Берлине, либо совершенно не интересовались литературой, либо политически остались по ту сторону баррикады, которую возвела между нами революция — ее принятие или непринятие. С немецкими литературными кругами, несмотря на несколько лестных заметок, появившихся в периодической печати, — впрочем, заметки касались больше моей манеры чтения, чем моих стихов, — я сойтись не сумел. Вернее — не хотел.
С самого начала моей жизни в Берлине я невзлюбил город, не зная его. Со временем, после того, как я изучил его улицы и закоулки, моя нелюбовь еще усилилась. Инстинктивная нелюбовь соединилась с тем душевным неустройством, которое вот уже полтора года как меня мучило. На углах берлинских улиц, в подстриженных скверах, у ярко освещенных входов в кино, в темных залах кафе я часами ждал ее, но она почти никогда не приходила. Мое лицо сек косой дождь или жгло пыльное солнце, мне десятки раз казалось, что я узнаю издали ее дождевик или знакомое платье, но это была не она, а другая женщина, со знакомой походкой, но чужим лицом или похожим лицом, но чужою походкой. Я уезжал в Грюневальд, бродил по лесным дорожкам между молоденькими березами, покрытыми коричневой корой, сидел на берегу заросшего камышами озера, вспоминая, как несколько дней тому назад мы сидели здесь, на берегу этого самого озера, и как я был нестерпимо счастлив, потому что она не отворачивалась, когда я начинал ее целовать. Вернувшись домой, я находил коротенькую записочку, посланную экспрессом, в которой она писала: «Прости, сегодня я не могла прийти, но завтра на Оливаерплац, в 3 часа…» Эти записочки до того были похожи одна на другую, что однажды я предложил ей отпечатать в типографии листок, на котором осталось бы незаполненным место предполагаемой встречи.
Иногда она приходила ко мне — всегда неожиданно, не предупредив заранее, — на Шютценштрассе и, пройдя с великолепным равнодушием сквозь неприветливость фрау Фалькенштейн, входила в мою комнату, долго прихорашивалась перед зеркалом, а часа через два, снова приведя лицо и одежду в порядок, говорила:
— Знаешь, может быть, я скоро выйду замуж.
И хотя я знал, что ей: восемнадцать лет, что ее практичные родители так скоро замуж ее не выдадут, сердив проваливалось в преисподнюю, и я, заикаясь, бормотал:
— Значит, мы больше не встретимся?
Но она, уже стоя на пороге и протягивая мне руку в синей лайковой перчатке, говорила легко и спокойно:
— Нет, почему же? Приходи завтра на угол Курфюрстендам и Уландштрассе часа в три. Пойдем смотреть Полу Негри.
И я, зная по опыту, что на экране Полу Негри мы не успеем разглядеть и даже не будем знать содержания фильма, нашим невниманием разбитого на случайные кадры, и уже ощущая над нашими головами косой луч проекционного аппарата, кричал ей вдогонку:
— Только не опаздывай!
А на другой день, опоздав на добрый час (если только она вообще приходила), она спокойно доказывала мне, что на полчаса не стоит заходить, и мы скитались по ненавистным берлинским улицам, выбирая кварталы, где было меньше возможности встретиться с ее отцом или матерью.
Так продолжалось полтора года, и хотя теперь наши свидания случались все реже, а я, вернувшись домой, даже не находил извинительной записочки, я все еще никак не мог оторваться от ослепительных и ненужных мыслей о ней.
Я вернулся в жизнь, мог писать и влюбляться, может быть, и не так, как следовало бы, но все же это было живой жизнью, когда дождь, даже берлинский, не обязательно превращается в символическую тоску, а солнце, растопляющее асфальт, покрывает загаром лицо. Но все же, пока я жил за границей, пока вокруг меня говорили не на моем языке, пока я не мог найти общего знаменателя — русскости — с людьми, меня окружающими, я понимал, что полной моя жизнь не будет, что я не смогу до конца выразить того, на что я, быть может, был способен. Если бы я был математиком, скульптором или художником, дело обстояло бы иначе, но стихия языка, вне которой я, живя за границей, должен был оставаться, была стихией русского, и только русского, языка.
Ответ на мое прошение о восстановлении меня в советском гражданстве запаздывал. Последних, еще остававшихся в Берлине уиттиморовоких стипендиатов отправляли во Францию в июле. Занятия в университете кончились. Я уехал в деревню, где в то лето жили Венусы. Немецкая красная кирха, кирпичные домики, одинокие фермы, похожие на захудалые средневековые замки — настолько в них были огромны ворота и толсты каменные стены пристроек, — длинный, пересекавший по прямой линии лес и поля, узкий канал, наполненный черной водою, — все это было чужим, мне казалось, что на каждом дереве, на каждом камне стояло клеймо: «Made in Germany». Мне удалось убедить доверчивого владельца фермы, что я не курю и вообще никогда в жизни не умел зажечь ни одной спички, и он пустил меня ночевать на сеновал. Сено пахло, сквозь щель были видны летние, медленно проплывавшие облака, но писать я не мог, лирическая волна спала, и наступил долгий штиль.
В конце концов, так и не дождавшись ответа из консульства, я уехал в Париж. С грустью я расстался с Юрой Венусом, твердо уверенный, что мы скоро встретимся в России. Я думал, что мое пребывание в Париже будет кратким, что это лишь временный этап моей заграничной жизни. Судьба судила иначе: во Франции я прожил больше двадцати пяти лет.
ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Во Франции, на острове Олероне, омываемым Атлантическим океаном, произошла моя первая встреча с Советской Россией. Здесь впервые да двадцать два года, прошедших после моего босфорского лагерного сидения, я встретился с обыкновенными русскими людьми, не с теми, с кем мне случалось встречаться до тех пор, — писателями, художниками, учеными, — а с теми, кто был просто русским народом. Я был потрясен и ослеплен этой встречей.
На Олероне вместе с женой и детьми я очутился совершенно случайно. До 1946 года, когда я получил советский паспорт, я был апатридом, человеком, не желавшим принять подданство чужой страны. Французское правительство в 1934 году взяло на военный учет всех бесподданных. Тем, кому не наполнилось тридцати лет, выдали военные книжки, обязывавшие их к немедленному призыву в случае всеобщей мобилизации, а те, кто был старше, — к ним принадлежал и я, — брались на учет и должны были быть мобилизованы позже. После того, как началась война, в 1939 году, мне удалось получить работу на каучуковом заводе, выполнявшем заказы на оборону, а семья, уехавшая из Парижа на летние каникулы, так и осталась зимовать на Олероне. То, что семья приехала да Олерон за два дня до начала войны, сыграло впоследствии очень важную роль: всех приехавших на остров после 3 сентября 1939 года немецкие власти выслали на континент, а нас, как «постоянных» жителей, не тронули.