Том 10. Петербургский буерак
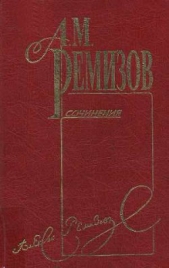
Том 10. Петербургский буерак читать книгу онлайн
В десятый том Собрания сочинений А. М. Ремизова вошли последние крупные произведения эмигрантского периода творчества писателя – «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак». В них представлена яркая и во многом универсальная картина художественной жизни периода Серебряного века и первой волны русской эмиграции. Писатель вспоминает о В. Розанове, С. Дягилеве, В. Мейерхольде, К. Сомове, В. Коммиссаржевской, Н. Евреинове, А. Аверченко, И. Шмелеве, И. Анненском и др. «Мышкина дудочка» впервые печатается в России. «Петербургский буерак» в авторской редакции впервые публикуется по архивным источникам.
В файле отсутствует текст 41-й страницы книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все его революционные обличения никого не трогают. Это все равно как, почесывая брюшко кота ругать: мерзавец, плут, лежебока.
На революционные обличения революционеры не отозвались. Чехов безыдейный писатель. Что означает: никакой политической программы. (Эка, дурак, сморозил!) Это не Горький – словесное бурение. Правда – Палата № 6 – тронула Ленина, 8 но не революционностью, а угрожающей чепухой. он вышел, не мог оставаться в комнате, ему казалось, он заперт в – Палате № 6. (А. И. Ульянова-Елизарова. Воспоминания о Ильиче, Москва, 1934).
Чехов свой у «либералов», – среди обличаемой им «середины».
Я объясняю его необыкновенной деликатностью, ведь только раз сорвалось с гневом: Соломон, сжегший деньги, свое наследство («Степь»).
Однажды лето я прожил под одним кровом с братом Чехова Иваном Павловичем. 9 Говорили, кто знал Чехова, о необыкновенном сходстве братьев. Конечно брат, как и однофамилец, не мера, но порода скажется: наше соседство было мне никак не тягостно – всегда внимательный, предупредительность и деликатность. Иван Павлович учитель. Я подумал: учитель – ошибки – как возможно не сердиться? А Чехов – врач – и у кого еще так выговорится: «Един Ты еси без греха». Отсюда его «человечность» – суд надчеловеческий: «обвиноватить никого нельзя» (Враги), и решение судьи не бесстрастное и безразличное: «проходи дальше», а участливое – жалость и сострадание. Теплота глаз его голоса – слова (Анюта, Хористка, Трагик). По таким глазам мир детей и безгрешное звериное. Черствому сухарю не под руку. О детях – Степь, Страстная неделя, Житейская мелочь, Беглец, Спать хочется, Происшествие. А о зверях – Каштанка, Белолобый (Волчица и щенок), Нахлебники. И мне стало понятно, почему все чеховские обличения никак не трогают – больного не упрекают, на больного не кричат.
Немощи человека, боль и терпение приближают к Богу (Мороз). – Добрых больше, чем злых (На пути).
«Чепуха» – кавардак и бестолочь – душа жизни. И даже беда не исключение: несчастье не соединяет, несчастные друг другу враги (Враги).
Чехов не сказочник, но сказка для него не закрыта (Степь, Счастье). Чудесное для него лишь больное воображение.
Огромный дом Рениксы с заколоченными окнами и дверями.
На долю Чехова – маниловские эмпиреи. И Чехов парит: люди бросят эти фабрики, амбары, канцелярии и куда-то уйдут, на их смену явятся другие и другой породы и все пойдет по-другому и законом не будет чепуха.
«Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть». (Случай из практики).
Чехов верил в человека. (Рассказ старшего садовника).
На Чехове с ума не сходят, сказать зачитался, к Чехову никак. Рассказ искусно отточен, не ухватить выдрать сло́ва, пустых мест нету, но и нет дразнящих мыслей.
Все завершается на глазах в привычной обстановке и круге прописных чувств, ни тайн, ни изворотов. Задумываться не над чем.
Для нетребовательного или измученного загадками Чехов как раз. Читать Чехова, что чай пить, никогда не наскучит.
Оттого, может, так и спокойно. Чехова будут читать и перечитывать.
Комнатные рассказы Чехова, как будто не было ни Гоголя, ни Достоевского, ни Толстого, ни Тургенева.
Документальность: сад в Черном монахе, Амбар (галантрея) в Три года, Фабрика, Случай из практики и в Бабьем царстве.
Чехову никаких снов не снилось, хотя о снах он поминает (Дуэль). Мир для него скован Евклидом, – его мир Реникса с заколоченными окнами – простая обстановка.
И даже там, при повышенной температуре – где для Гоголя, Достоевского и Толстого пролет в другой мир – для Чехова только галлюцинация по Бюхнеру, Фохту и Молешоту – из образов мысли «больного», возможно с бредовой завитушкой, но ничего нового, никаких «клочков и отрывков» другого мира.
И когда я задумал нарисовать из Чехова, как я рисовал из Гоголя, ничего не нашлось, – «прямая кратчайшее расстояние между двумя точками» – этим исчерпывается рисунок.
Этот мир он встретил смехом. Смех погас, начались обличения. Выговорившись, Чехов пустился парить в эмпиреях – все эти разглагольствования о грядущем рае на земле и чепушном мире, да ведь это не только чепуха, а чепуховина, над которой однажды он добродушно смеялся.
Чехов верил в человека.
Умный человек. – Но где? – чепуха показалась еще чепушнее – неизлечимый больной ищет помощи, а средств никаких облегчить.
Распариваться в эмпиреях – зарапортуешься. Нет, ни смех, ни риторика – ничего не поправишь (Студент). Обреченность и гибель – закон существования. Сумерки.
А заря – радость и правда, но это из эмпирей.
И пусть новые люди установят разумный порядок и все будет рассчитано и предусмотрено по науке фон Корена и водворится на земле Радость – «веселая жизнь» и Правда просвещенная – «справедливость», но куда девать «тяжелых людей», которые непременно сорвут всякий порядок, и куда девать всех этих навязчивых со своими убеждениями «жаб», «Печенегов» и Пришибеевых, куда девать колдующую любовь, под взглядом которой ерунда получает значение (Хорошие люди), и как быть с перевернутыми словами, когда слышится не то, что говорится, а что ждешь (Брак по расчету), и чем победить страх – не грозы, не покойников, не привидений, а страх самых обыкновенных уличных звуков, страх своих мыслей, страх жизни, страх неизвестного (Страх). И как и чем обуздать амурную кувырколлегию (словцо Лескова), любовь непокорна и неожиданна – приходит, не спросит, уйдет, не скажется: – любишь – не любит, разлюбишь – полюблю (Три года). И куда девать жадных зверовидных баб (Ариадна, Сусанна, Аксинья) и расчетливое скотоподобие (Анна на шее, Супруга, Попрыгунья).
И наступит уже не чепуха, не чепуховина, а чепушенция.
Здание Рениксы – не вижу дверей, окна заколочены – ни туда, ни сюда. И никакая новая порода – никакой разумный порядок в «производстве и распределении», никакие пути не приведут к выходу.
Чепуха – единственный «смысл» жизни.
Все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво – мираж.
Из пропада песня – этот голос и в скрипке и в виолончели – первородная сияющая боль жизни, от скрипа до белого звука.
Под конец жизни, измаявшись, отзывчивое сердце – да и свое неизлечимое, расставаясь, Реникса нарядилась в весеннее белое – вишневый сад. И горечь расставания зазвучала – вы слышите песню, на мотив из завойных романсов Чайковского, любимой музыки и церковных прозрачных песнопений – памятник детства.
«О мое детство, чистота моя! в этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. Весь, весь белый! О сад мой! 10После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя… Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!»
Заколоченные двери Рениксы вдруг распахнулись –
– Как на этом свете все быстро делается (Горе).
«И идет он по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!» (Архиерей).
Это случилось 2 июля 1904 года – помер Чехов.
«Что мне кажется прекрасным и что я хотел бы сделать, – это книга ни о чем, книга без всякой внешней опоры, которая держалась бы сама собой внутренней силой своего стиля, как держится в воздухе земля, ничем не поддерживаемая, книга, которая почти не имела бы сюжета, или, по крайней мере, в которой сюжет был бы невидным, если это возможно» (Из письма Флобера к Луизе Коле. 16 янв. 1852 г.)






















