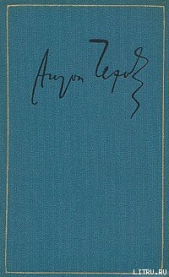Том 5. Повести, рассказы, очерки, стихи 1900-1906

Том 5. Повести, рассказы, очерки, стихи 1900-1906 читать книгу онлайн
В пятый том вошли произведения, написанные М.Горьким в 1900–1906 гг. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Трое», «Песня о Буревестнике», «Злодеи», «Человек», «Тюрьма», «Рассказ Филиппа Васильевича», «Девочка», «А.П. Чехов», «Букоёмов, Карп Иванович». Эти произведения неоднократно редактировались М.Горьким. В последний раз они редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 гг.
Остальные шестнадцать произведений пятого тома включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями, эти произведения, опубликованные в газетах, журналах, сборниках, нелегальных революционных изданиях 900-х годов, М.Горький повторно не редактировал. Не законченное М.Горьким произведение «Публика» полностью печатается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды он спросил Офицерова:
— Послушайте — неужели вам здесь нравится?
— Ежели бы не дрались — ничего бы… — ответил рябой своим тихим, мягким голосом.
— Вас — бьют? Кто?
— Меня — редко бьют… Я говорю вообще, про всех!.. Арестанты дерутся… — страшно. И надзиратели их бьют… не всех… не всякого можно ударить! Но — которых можно бить — тех уж без жалости!
Он пугливо передёрнул плечами, оглянулся и, широко открыв красивые глаза, продолжал:
— А я — не могу этого видеть…
Стояли они за углом тюремной башни, около кучи сора, щебня и каких-то обломков дерева. Над ними медленно и важно двигались тёмные тучи, дул ветер и приносил откуда-то из города разбитые, разрозненные звуки…
— Извините меня, — тревожным шёпотом заговорил Офицеров, часто мигая глазами, точно он видел пред собой что-то ослепительно яркое, — извините, может, это — моя большая глупость…
— В чём дело? — понижая голос и волнуясь, быстро спросил юноша.
Офицеров подвинулся к нему и дрожащим голосом сказал:
— Это — насчёт бога… Вы — веруете?
Миша опустил голову и, не сразу, тихо ответил:
— Н-не знаю…
— И я тоже не знаю! — торопливо подхватил тюремный надзиратель. — Я очень думаю об нём… ведь если он, действительно… зачем же такой ужас везде?.. И жестокость? Вы — человек учёный… зачем же ужас и жестокость?
На глазах его явились крупные, тусклые слёзы, движением головы он стряхнул их и — поспешно, не оглядываясь, ушёл прочь.
Миша возбуждённо ходил по камере, а в полумраке вокруг него, вливаясь тонкой струйкой в форточку окна, звучала тихая, жалобная песня — некрасивая песня, похожая на отдалённый вой голодного волка:
— А-а-а! о-о-ой! э-ой…
И всё, что пережил юноша за последнее время, точно воскрешаемое этим однообразным стоном, вставало в памяти его последовательно, настойчиво и упрямо, как бы требуя от него объяснения…
Его «подвиг» представлялся ему теперь чем-то тусклым, мало понятным, как старая, покрытая пылью и копотью картина, а себя он видел смешным студентом, безалаберно размахивающим руками среди толпы людей, сконфуженных своим бессилием, устыженных той лёгкостью, с которой их победила тупая, механическая, но организованная сила. Усталые, злые, равнодушные лица полицейских, пренебрежительная гримаса офицера, которому Миша кричал свою речь, околоточный надзиратель с больным зубом, — всё это всплывало в памяти юноши кошмаром, который давил его мозг…
«Вероятно, им было стыдно за наше бессилие…» — думал Миша и тотчас же понимал, что эти угрюмые, усатые солдаты, приученные и привыкшие обращаться с людьми, как со скотом, ничего не могут стыдиться и ничего не умеют чувствовать, кроме физической боли и страха пред той силой, которая поработила их и двигает ими, как хочет. Ему вспомнился извозчик — как он пугливо задёргал вожжами, когда околоточный крикнул на него… Прозвучал голос равнодушного человека у ворот части, — человека, который говорил о людях, как о брёвнах или кирпичах… Он вспомнил мать Офицерова, которая не протестовала, когда сыну её дали фамилию по профессии его отца, а ведь она должна была знать, что эта фамилия будет причиной злых и обидных насмешек над сыном… Может быть, только из-за этого Офицеров провёл три года на каторге дисциплинарного батальона… Вспомнилась горничная начальника тюрьмы, простившая издевательство над нею за десять рублей… Офицеров, на всю жизнь испуганный жестокостью людей… бессмысленная жалость старика Корнея, который, безропотно подчиняясь чужой воле, восемнадцать лет твердит людям всё одно и то же тупое слово: «нельзя!» — и никогда не спросил себя почему же нельзя?
Даже во сне люди видят и чувствуют, что их бьют, и, охваченные ужасом, они кричат во сне дикими голосами:
— Не бей! Пощади…
Миша остановился среди камеры — отвратительное чувство какой-то липкой тоски наполнило его грудь. За окном уныло колебалась песня:
— А-а-о-й…
Мише стало казаться, что это в нём, в его груди дрожит и стонет тоска, боль и горький стыд за людей…
— Послушайте… — раздался в камере тихий шёпот. Миша почти с радостью пошёл к двери; в отверстии посреди её ласково блестели красивые глаза Офицерова.
— Что вы? — спросил Миша.
— Не спите?
— Нет…
— В тюрьме очень многие плохо спят… Прослушайте стихи… если любопытно…
— Пожалуйста… говорите!
— Только, я думаю — они запрещённые!.. Это во втором этаже было написано… в башне, карандашом на стенке…
Глаза Офицерова на минуту исчезли из кружка в двери, потом он вставил в него свои губы, и камеру наполнил тихий, таинственный шёпот, весь пропитанный тёплой грустью и страхом:
В круглом отверстии старой, туго связанной железом двери шевелилось что-то тёмное, мягкое, живое, рождая тихие, грустно дрожащие слова. Миша, широко открыв глаза, стоял, наклонив голову к окошку, слушал, и ему казалось, что это само дерево двери, насыщенное тяжёлыми вздохами людей, поглотившее множество тоски и одиноких дум, превратило человеческое страдание в печальную легенду и теперь таинственно рассказывает её. И этой легенде, чуть слышно вздыхая во тьме за окном, вторит бесконечная песня-стон.
В окошечке что-то передвинулось, потом тёплыми огоньками заблестели, улыбаясь, глаза Офицерова.
— Понравилось вам? — прошептал он.
В горле Миши было сухо, в груди его не хватило воздуха. Он пристально смотрел в красивые глаза, и вдруг ему показалось, что тюремный надзиратель должен был сам сочинить эти стихи, непременно сам! Не сразу и тихо он ответил:
— Понравилось… Почему вы думаете, что это запрещённые стихи?
— Как же — ведь о правде!
— Вы сами… не сочиняете стихов?
— Я? — удивлённо спросил Офицеров. — Нет… куда же? Только когда ещё в солдатах был, так составил себе одну молитву…
— Какую? Скажите!
Несколько секунд тишины — и снова по камере пронёсся шелест простых, задушевно сказанных слов:
— Господи, боже мой! Почему так много в людях жестокости и злобы? Господи — почему?
Этот вопрос мягко, но сильно толкнул Мишу в грудь, охватил и смял его. Он бесшумно шагнул назад, присел на край нар и, крепко упираясь спиной в угол печи, неподвижно уставился на дверь и — ждал чего-то…
А Офицеров спокойно говорил:
— Она была длинная… теперь уж я забыл её… Знаете — очень я люблю стихи… они совсем не похожи на то, что люди говорят…
Миша видел, что глаза надзирателя внимательно смотрят на него; он слышал шорох за дверью и однообразно унылые звуки песни за окном… От печки спина его нагревалась, но в груди было тесно и холодно.
— Вам нездоровится? — спросил надзиратель. — Такая погода тяжёлая…
— Нет, ничего… — глухо ответил Миша.
Ему казалось, что в камере душно, воздух в ней какой-то странно густой, насыщенный тяжёлым, тёплым шёпотом и трудно дышать этим воздухом.
— Вы — лягте, — посоветовал Офицеров. — Спать пора.
И неожиданно он добавил:
— Ещё одного рядом с вами посадили…
Миша промолчал. Глаза Офицерова сверкнули и исчезли.
Теперь на месте их осталось только маленькое, круглое отверстие посредине двери, и сквозь него был виден мёртвый, серый кружок стены, освещённый ровным, неподвижным светом. Болезненно наморщив лоб, Миша смотрел на него и читал про себя: