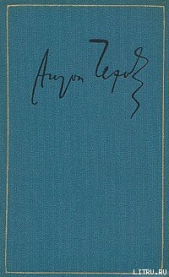Том 5. Повести, рассказы, очерки, стихи 1900-1906

Том 5. Повести, рассказы, очерки, стихи 1900-1906 читать книгу онлайн
В пятый том вошли произведения, написанные М.Горьким в 1900–1906 гг. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Трое», «Песня о Буревестнике», «Злодеи», «Человек», «Тюрьма», «Рассказ Филиппа Васильевича», «Девочка», «А.П. Чехов», «Букоёмов, Карп Иванович». Эти произведения неоднократно редактировались М.Горьким. В последний раз они редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 гг.
Остальные шестнадцать произведений пятого тома включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями, эти произведения, опубликованные в газетах, журналах, сборниках, нелегальных революционных изданиях 900-х годов, М.Горький повторно не редактировал. Не законченное М.Горьким произведение «Публика» полностью печатается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Только и всего! — тихо добавил Офицеров, когда кончил рассказ, и пугливо оглянулся вокруг, спрятав под ресницами свои робкие глаза. Слушая, Миша чувствовал отвращение к мучителю, но когда — в тот же день — увидал его в своей камере, то с удивлением заметил, что в его душе нет иного чувства к этому человеку, кроме острого любопытства и лёгкой брезгливости…
Из окна Миша видел, что, кроме чёрного человека в толстом пиджаке, на прогулку выходят ещё человек шесть политических. Очевидно, это были рабочие — коренастые, крепкие, плохо одетые, — они смотрели на всё сурово, исподлобья. Когда их глаза останавливались на лице Миши, он почему-то чувствовал себя неловко под этим взглядом, и ему хотелось спрыгнуть с подоконника. На худых, голодных лицах этих людей точно вырезано было выражение твёрдой непреклонности. Некоторые из них улыбались ему, делали какие-то знаки. Миша тоже отвечал им улыбками и жестами. Он чувствовал к этим людям интерес, уважение и замечал, что с таким же интересом к ним присматриваются уголовные арестанты. Иногда, пользуясь невниманием часового, серые фигуры уголовных подбегали к политическим и выпрашивали папиросу или вступали с ними в быстрый, тихий разговор.
…Иногда после обеда уголовные, сидя в столовой под камерой Миши, запевали песню, и сквозь пол камера наполнялась глухими, матовыми звуками. В их густой волне Миша не мог уловить слов, и только однажды он разобрал, как кто-то высоким, тоскующим тенором пел и жаловался:
Но чаще арестанты пели какие-то весёлые, бесшабашные песни с присвистом, с гиканьем; эти песни наполняли стены тюрьмы дерзкими звуками буйной силы. Тогда Мише казалось, что тюрьма дрожит, негодуя, на камнях её стен являются новые трещины, тяжёлая злоба тревожно и невидимо льётся из них на людей… Отовсюду бежали надзиратели и быстро гасили этот взрыв веселья, рождённого тоской… Миша видел, что надзиратели относятся к уголовным неодинаково: людей ничтожных, которые легко поддавались порабощению, — они презирали и порабощали, а к людям смелым, умевшим отстоять своё человеческое достоинство, — почти всё начальство относилось осторожно, даже, порою, дружелюбно, и только редкие позволяли себе открыто и враждебно проявлять свою власть над ними. А на «политиков» надзиратели смотрели — как это казалось Мише — с подстерегающим, затаённым интересом, и в нём чувствовалось недоверие, усталое ожидание чего-то особенного, необычного…
Однажды Офицеров, провожая Мишу на прогулку, шепнул ему:
— Ночью ещё троих ваших привезли…
— Студентов?
— Мастеровые…
— Скажите, Офицеров, вы знаете, за что их сажают в тюрьму? — спросил Миша.
Надзиратель подумал, оглянулся и, широко открыв глаза, сказал, подавленно вздыхая:
— Всяк по-своему жить хочет… и выходит распря!
Но, помолчав, он таинственно добавил:
— Не согласны они…
— С чем?
— Вообще не согласны… со всем!..
Почти каждую ночь в своё дежурство старый надзиратель — его звали Корней Данилович — подходил к двери камеры и, вставляя своё тёмное лицо в круглую рамку окошечка, с болтливостью старика начинал рассказывать Мише какие-то бессвязные истории. Корней много видел, много пережил, но все впечатления жизни перепутались в памяти его в огромный клубок несчастий, бессмысленного труда, унижений и каких-то безотчётных поступков. Иногда эти поступки казались Мише хорошими, трогали его, чаще — они были нелепы и дурны и всегда — необъяснимы, случайны, как будто человек не своей волей делал их, а только безропотно и бездумно исполнял повеления неведомой и непонятной ему воли, извне управлявшей им…
— Было это… лет пятнадцать тому назад, — шептал он, неподвижно остановив рыбий глаз на лице Миши, — вижу я — стал он у меня задумываться… сын-то, Алексей-то… В церковь — не ходит, в трактиры — не ходит… Присмотрел я за ним… а он со штундой связался… н-да… Поругал его, первым делом — смотри, говорю, я те задам! А он не прекращает… тут пожаловался я на него священнику… ну, пришёл он от священника… замечаю — злой такой… Я смеюсь ему — что, мол, задал тебе батюшка-то перцу? Тут он, на грех, как ругнёт его, батюшку-то… Я говорю — ах ты, такой-сякой! Как смеешь? А он и меня… Ну, я разозлился да горшком с кашей в морду ему и запалил… Разбил морду-то… Он и ушёл… так с той поры и нет о нём ни слуху ни духу… так и нет… Вот вы какие строптивцы, молодые-то… н-да!
— Жалеете теперь о нём? — тихо спросил Миша. Старик не сразу ответил. Он помолчал, крякнул, несколько секунд бормотал что-то под нос себе и уж потом спокойно сказал:
— Когда и жалко… Всех жалко… Бывает даже убийцев и то жалко… Тоже — не всякий зря убивает… когда и за дело… Может, некоторых убийцев благодарить надо… Палач, примерно… Он ведь не зря, а для общей пользы убивает… Злодея и убить — не грех, а вы думаете, палачу-то сладко?
Миша быстро наклонился к отверстию в двери — он хотел видеть, что теперь выражает лицо этого старика, который неизвестно зачем отбросил от себя родного сына и способен пожалеть палача? Но лицо, как всегда, было подобно камню, покрытому трещинами, и глаза на нём блестели, точно два куска мутного стекла…
— Что смотрите? — спросил старик.
— Так… ничего… — тихо ответил Миша. — Скажите, почему вам не понравилось, что сын со штундистами познакомился?
— А про неё говорили, что она вредная… штунда! Однако года три назад сидело здесь четверо их… ничего, степенные мужики! Грамотеи всё, смирные… худого за ними здесь не было замечено! Хорошие арестанты… Спрашивал я их про Алексея — не знаем, сказали. Нас, говорят, много. Пожалуй, это и верно — часто они здесь сидят…
Помолчав, он продолжал:
— Теперь преступников всё больше пошло… Раньше были одни воры, грабители, убийцы… а теперь вот начались студенты, рабочие, политические, штунда и ещё всякие… Развал пошёл!
— Это вы — неверно! — горячо и торопливо заговорил Миша. — Люди хотят исправить жизнь, сделать её лучше для всех…
Из-за двери раздался негромкий, сухой смех, и потом старик, покашливая, сказал:
— Слышал я это… да! Многие говорили так-то…
Он поднялся и ушёл, как будто недовольный и рассерженный.
А однажды он рассказал такую историю.
— Я ведь жалостлив… я могу людей понять! Сидел в моём коридоре беглый каторжник, — здоровенный такой парень, красавец, обходительный… Мужик был, а улыбался, как хороший барин… бывало — улыбается, и ни в чём ему не откажешь. Скажет: «Данилыч! Достань табачку!» Достану… Ну, и скрал он где-то себе ножик, сделал из него пилку, добыл сала — и давай решетку у окна обрабатывать… А я это тотчас и заметил… и так мне его жалко стало! Эх, думаю, брат, не удастся тебе это дело! Однако — не мешаю ему, пускай, думаю, тешится, всё не столь парню скучно жить… Долго он старался поди-ка, недели три… а я слежу… Утешайся, мол…
Корней Данилыч ласково засмеялся.
— Ну, а когда работа у него до конца дошла — тут уж я и заявил начальнику…
— Зачем же? — воскликнул Миша.
— А как иначе? — спросил старик.
— Да вы бы этому, каторжнику-то, ему бы сказали!
— Чудак вы, — усмехнулся Корней. — А как же решётка-то? Ежели она перепилена.
— Да ведь можно было тогда сказать, когда он только начал пилить!
— Н-да… так разве? Можно было эдак… это верно… Ну, а как я сделал — оно лучше — всё-таки занял себя человек…
— Но ведь его наказали за это?
— А как же? Нельзя без того…
— И — очень?
— Н-не помню… в карцере месяц сидел, однако… потом, кажись, на суде ещё что-то дали… уж не помню я…
— Какая нелепость! — возмущённо воскликнул Миша. Тёмное лицо старика странно закачалось в окошке, и он, вздохнув или позёвывая, медленно проговорил:
— Н-да… неисправимая жизнь!
…В таких разговорах старик и юноша проводили часы, один равнодушный и холодный, другой — полный бессильного негодования и недоумения. Между ними крепко стояла окованная изъеденным ржавчиной железом толстая дверь, и сквозь маленькое отверстие в ней бессонный и болтливый тюремный житель заваливал душу юноши угрюмым хламом своих воспоминаний. Миша начинал чувствовать зарождение чего-то тяжёлого и тёмного внутри себя.