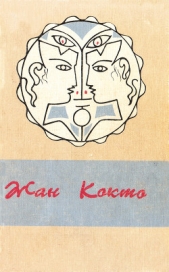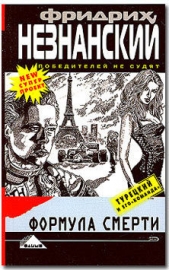Собрание сочинений. Том 4

Собрание сочинений. Том 4 читать книгу онлайн
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде. Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926–1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Это великая «Колымиада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но и добру внимая отнюдь неравнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи.
В четвертый том Собрания сочинений В.Т. Шаламова вошли, автобиографическая повесть о детстве и юности «Четвертая Вологда», антироман «Вишера» о его первом лагерном сроке, эссе о стихах и прозе, а также письма к Б.Л. Пастернаку и А.И. Солженицыну.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У нас была как-то Новелла Матвеева. Это — несомненно одаренная поэтесса. Только «не те книги читала», как говаривал Чернышевский когда-то.
Сказала о Пастернаке языком слушателей Литературных курсов:
«Стихи Пастернака написаны рукой, на пальцах которой надето множество драгоценных перстней. Вот переводчик Пастернак — это да!»
Уши Литературных курсов выступают из этой фразы явственно.
Пастернак открыл людям новый мир, и нечего бояться (прозой для Новеллы Матвеевой служат ее песни), надеты на этой руке, открывающей окно в новый мир, перстни или не надеты.
Когда-то главврач Дебинской больницы т. Ильина (которая рекомендовалась так: я — сестра футболиста Ильина) просила меня — я уже кончал тогда срок, работал фельдшером в больнице: «Порекомендуйте мне что-нибудь читать».
Я говорю: «В библиотеке Хемингуэй есть, «Пятая колонна» и первые сорок восемь рассказов, чего ж лучше!»
Ильина: «Нет — Хемингуэй — это не чтение для меня. Мне нужен черный хлеб, а не предмет роскоши».
О Кафке. Читал только те два рассказа, которые были опубликованы в «Иностранной литературе». Надо думать, что это — самые плохие рассказы Кафки. По этим рассказам видно, что это писатель — гигант огромного роста.
Символические памфлеты, трактующие о судьбах мира и человека, возвращают нас к Гофману. Только фантастика Гофмана была нестрашной. Фантастика Кафки наполнена ужасом, как и его старшего современника Достоевского.
Стихи в жизни людей значат очень много.
Тяжелая раковая больная Вера Николаевна Клюева [83] — автор словаря синонимов, профессор литературы, умерла во время чтения стихов Блока. Ей целую ночь читали Блока. Дочь читала. Умерла, как Петроний в Риме.
Говорят, что стихи должны быть ясными (мысль ясно изложена) и что это, якобы, их главное достоинство.
Я смотрю на дело иначе.
В поэзии главное — не ясность, а точность. Ясность и точность — вещи разные.
Как поступать с подтекстом, с символикой? С намеком, аллегорией?
Ведь язык — вовсе не так совершенен, как нам кажется.
Разве чувства не многообразней мысли, всего запаса слов?
Разве хватит запаса слов, чтобы, скажем, описать человеческое лицо?
Чувство богаче мысли, и одна из задач стихов — передать это чувство, пользуясь таким несовершенным аппаратом, как слово.
Именно потому, что чувства богаче мысли, — завоевания в этой области, поиски нового выражения, подробности безграничны.
(Начало 1960-х)
ОКОНЧАНИЕ
Конечно, я все время думаю, чтобы стихи мои не были похожи на чьи-либо другие.
Надо совершенно ясно понять, что большие поэты никаких дорог не открывают. Напротив, по тем дорогам, по каким приходили большие поэты, ходить уже нельзя. Вот такие следы поэта, по которым нельзя ходить, и называются поэтической интонацией. Это относится и к прозе.
Пока не нашел новое — молчи.
Поэзия — бесконечна. В искусстве места хватает всем, и не надо тесниться и ссориться.
Рождается ли стихотворение из образа? Да, рождается. Но это вовсе не единственный путь рождения стихотворения.
Тут важно, чтобы образ был не литературен. Стихи не рождаются из стихов, сколько ни учись. Стихи рождаются из жизни. Учиться надо затем, чтобы не повторить чужой дороги, не загубить свежее и важное наблюдение банальным языком или — что еще хуже — чужим языком.
Конечно, поэзия — дело очень трудное. Однако она имеет такие особенности, какие не имеет ни одно другое искусство. Не имеет и проза. Когда сравниваешь поэзию с прозой, я всегда вспоминаю строки «Спекторского» Пастернака.
(1960-е)
КОЕ-ЧТО О МОИХ СТИХАХ
Я пишу стихи с детства. Мне кажется, что я всегда их писал — даже раньше, чем научился грамоте, а читать и писать печатными буквами я умею с трех лет.
В 1914 году я показал написанное мною антивоенное стихотворение классному наставнику, преподавателю русской литературы, Ширяеву — и удостоился первого в жизни публичного разгрома и уничтожения. Учитель русского языка раскритиковал мое стихотворение с позиции русской грамматики для русской прозы — вся инверсия была самым жестким образом осуждена и высмеяна. Я, семилетний мальчик, еще не умевший спорить, не мог напомнить Ширпеву пушкинских и лермонтовских цитат.
Я слушал молча. Мне все казалось, что совершена какая-то ошибка, что в мир стихов ворвались профаны, что вдруг все станет понятным всем.
Разумеется, столь жестокая публичная несправедливая критика вызвала только новый прилив моих поэтических сил.
Я издавал с товарищами в школе рукописный журнал с весьма оригинальным названием «Набат». Помещал там свои стихи, рассказы и статьи. Выступал с докладами о стихах — о Бальмонте, о Блоке.
Встреча с есенинскими сборниками, «Песнословом» Клюева, с «Поэзоантрактом» Северянина — самое сильное впечатление от столкновения с поэзией тех лет. Все мои старшие товарищи ругали эти книжки, но я понимал, что это — настоящие стихи, хотя и написанные по другим каким-то канонам, чем учили нас в школе — даже в литературных кружках.
В жизни моей не было человека, старшего родственника — поэта, школьного преподавателя, который открыл бы мне стихи. Нужно ведь для этого так немного: читать, читать, зачитываться до наркоза и потом искать причину этого гипнотического воздействия стихотворений.
Поэтому к Пушкину, Лермонтову, Державину я вернулся позднее — после Есенина, Северянина, Блока, Хлебникова и Маяковского.
Я продвигался ощупью, как слепой, от книжки к книжке, от имени к имени, то в глубь веков, то делая прыжок в современность — к крайнему модернизму, к кубистам и Крученых. Самостоятельно воспитывал доверие к самому себе.
Такой способ имеет свои преимущества, но и отрицательного тут очень много — потери времени на лишнее чтение, на поверженных кумиров.
Я поздно понял, что имеется Пушкин — величайший русский поэт. Что пока человек, живущий стихами, этого не поймет, — он сам еще не стал взрослым.
Я понял также, что Пушкин, как и Лермонтов, — поэты очень сложные и начинать приобщение к русской поэзии с этих двух имен нельзя. Не говоря уже о Тютчеве, Баратынском, Фете, не говоря о великих русских лириках XX века.
Я понял, что для приучения читателя к поэзии, к ее вопросам, к ее секретам, для возбуждения интереса к ее чудесам нужно начинать с двух поэтов — Некрасова и Алексея Константиновича Толстого.
Только эти два поэта могут приоткрыть человеку, не имевшему дела с поэзией, дорогу в истинное царство поэзии.
С 1924 года я живу в Москве, пишу по-прежнему стихи, даже отдаю в редакции «Красной нови», «Красной нивы», получая, разумеется, отказы.
В 1927 году я послал несколько своих стихотворений в «Новый ЛЕФ», чья программа вызывала у меня симпатию, и неожиданно получил большое личное письмо от Н. Н. Асеева.
Н. Н. Асеев и есть тот человек, который всерьез оценил мои стихи. По ряду обстоятельств мне не пришлось завязать это знакомство, поддержать эту переписку. Но примерно через год — вне всякой связи с Н.Н. Асеевым и его письмом — я попал в ЛЕФовский кружок, которым руководил О. М. Брик, в Гендриков переулок, и познакомился с одним из художников, бросившим искусство ради журнализма, — Волковым-Ланнитом, тем самым, что написал сам книгу о Родченко, автором большой работы «Ленин в фотоискусстве».