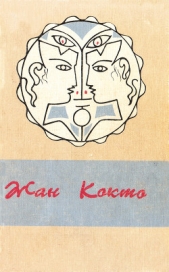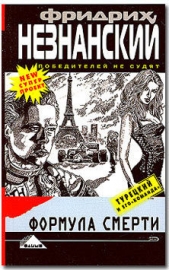Собрание сочинений. Том 4

Собрание сочинений. Том 4 читать книгу онлайн
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде. Сын священника. Учился на юрфаке МГУ в 1926–1929 годах. Впервые был арестован за распространение так называемого Завещания Ленина в 1929-м. Выйдя в 1932-м, был опять арестован в 1937-м и 17 лет пробыл на Колыме. Вернувшись, с 1957 года начал печатать стихи в «Юности», в «Москве». В его глазах была некая рассеянная безуминка неприсутствия. Наверно, потому что он в это время писал свои «Колымские рассказы» и даже на свободе продолжал оставаться там, на Колыме. Эти рассказы начали ходить из рук в руки на машинке года с 1966-го и вышли отдельным изданием в Лондоне в 1977 году. Шаламова заставили отречься от этого издания, и он написал нечто невразумительно-унизительное, как бы протестуя. Он умер в доме для престарелых, так и не увидев свою прозу напечатанной. (Она вышла в СССР лишь в 1987-м.) Это великая «Колымиада», показывающая гениальное умение людей сохранить лик своей души в мире лагерного обезличивания. Шаламов стал Пименом Гулага, но и добру внимая отнюдь неравнодушно, и написал ад изнутри, а вовсе не из белоснежной кельи.
В четвертый том Собрания сочинений В.Т. Шаламова вошли, автобиографическая повесть о детстве и юности «Четвертая Вологда», антироман «Вишера» о его первом лагерном сроке, эссе о стихах и прозе, а также письма к Б.Л. Пастернаку и А.И. Солженицыну.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я хочу считать себя поэтом, единственным русским поэтом, показавшим душу человека на лагерном Крайнем Севере, — вот единственная моя претензия.
Разумеется, никаких тайн искусства Дальний Север мне не открыл. Мои стихи написаны человеком, проведшим семнадцать лет в лагере и ссылке — из них более десяти лет на тяжелой физической работе. Мои стихи — пример душевного сопротивления, которое оказано растлевающей силе лагерей.
(Конец 1950-х — начало 1960-х)
СТИХИ — ВСЕОБЩИЙ ЯЗЫК
Стихи — это всеобщий знаменатель. Это то чудесное число, на которое любое явление мира делится без остатка. Это всеобщий язык. На свете нет ни одного явления природы или общественной жизни, которое не могло бы быть использовано в стихах, было бы чуждо стиху.
Тут дело вовсе не в том, что пишутся стихи о стихах. Стих о стихах — это совсем другое дело. Суть вопроса в том, что в «нутре» любого физического явления мы можем ощутить стихотворение и переключить это ощущение в реальную жизнь.
(1960-е)
СТИХИ — ЭТО ОПЫТ
Стихи — это опыт, душевный опыт. Совершенно несерьезно говорить — поэзия всегда была делом молодости. Напротив, поэзия всегда была делом седых, делом людей большого душевного опыта. Действительно, есть такое выражение «поэзия молодости». Но для того, чтобы описать, выразить это чувство, необходима душевная зрелость, огромный душевный опыт, личный опыт.
Вот почему, отвечая на болтовню Антокольского на сей предмет, я и написал «Поэзия — дело седых».
Вопрос опыта — вопрос сложный. Вот советы Рильке. Приношу извинения за длинную выписку.
Р. М. Рильке, «Заметки Мальте Лауридса Бригге». М., 1913 г., стр. 20. «…И стихи. Да, но стихи, если их писать постоянно, выходят такими незначительными. Следовало бы не торопиться писать их, и всю жизнь — и по возможности долгую жизнь — накапливать для них содержание и сладость, и тогда, к концу жизни, может быть, и удалось бы написать строчек десять порядочных. Потому что стихи вовсе не чувства, как думают люди (чувства достаточно рано проявляются у человека), они — опыт. Чтобы написать хоть одну строчку стихов, нужно перевидать массу городов, людей и вещей, нужно знать животных, чувствовать, как летают птицы, слышать движение мелких цветочков, распускающихся по утрам… Нужно уметь снова мечтать о дорогах неведомых, вспоминать встречи нежданные и прощания, задолго предвиденные, воскрешать в памяти дни детства, еще не разгаданного, вызывать образ родителей, которых оскорблял своим непониманием, тем, что, когда они стремились доставить радость тебе, думал, что она предназначается другому; детские болезни, разнообразные и многочисленные, и как-то странно начинающиеся… Дни, проведенные в тихих укромных комнатах, и утра на берегу морском; вообще море — море. Ночи в дороге, где-то высоко, с шумом проносящиеся мимо нас и исчезающие вместе со звездами: но и этого всего еще недостаточно. Нужно хранить еще в душе воспоминания о множестве любовных ночей, и чтоб при этом ни одна из них не походила на другую; о криках во время потуг и о белых воздушных спящих женщинах, уже разрешившихся от бремени и вновь замыкающихся… И еще нужно, чтобы человек когда-то бодрствовал у изголовья умирающих, сиживал около покойников, в комнатах, где окна открыты, и до него откуда-то как бы толками доносились разные шорохи. И все-таки мало еще одних воспоминаний нужно уметь забыть их и с безграничным терпением выжидать, когда они начнут снова всплывать. Потому что нужны не сами воспоминания. Лишь тогда, когда они претворятся внутри нас в плоть, взор, жест и станут безымянными, когда их нельзя будет отделить от нас самих, — только тогда может выбраться такой исключительный час, когда какое-нибудь из них перельется в стихотворение. А мои стихи все возникли иначе, и, следовательно, их нельзя назвать стихами».
1963
О ПРАВДЕ В ИСКУССТВЕ
Правда, явившаяся в искусство, всегда нова и всегда индивидуальна.
По сути дела, искусство для художника ставит необычайно ясную, необычайно простую задачу — писать правду, действительность, и овладеть всеми средствами изображения для того, чтобы лучше, вернее передать то самое, что называется жизнью и миром.
Тем самым всякая фальшивость, всякое подражание заранее обрекается на неуспех, ибо об этом будет судить потребитель, которому художник должен напомнить жизнь, но не литературу, т. е. уже открытое и увиденное кем-то раньше.
Нетребовательность читателя, когда тысячи романов принимаются за художественную литературу и таким именем называются тысячами критиков, возникает из малого общения с произведениями литературы действительной (или общения поверхностного, при котором нет глубокого увлечения вещью, а следовательно, и глубокой внутренней критики ее).
Многое в искусстве теряется и многое, наверное, навсегда потеряно, ибо не было условий для закрепления на бумаге, на полотне того, что увидел художник. А многое увиденное он не сумел закрепить.
Многое в искусстве обнаруживает себя зря, и если бы люди говорили на одном языке, многое из сказанного, ставшего искусством в силу национальных рамок языка, — может быть, не появилось бы вовсе. Так, мне думается, и среди пушкинской прозы есть кое-что, чего не было бы, если бы Мериме писал по-русски.
Подумать страшно, как много сил и материальных средств расходуется на т. н. социалистический реализм, на то, чтобы убедить читателей в том, в чем убедить писателя нельзя. Забывается, что писатель — это прежде всего читатель, преодолевший чужое зрение и научившийся видеть сам. Если он видит сам — рано или поздно он найдет средства изображения свои, т. е. убедит читателя в своем мире или в кусочке мира, расширит арсенал познания жизни (в прошлом ли, в настоящем ли). Искусство по сути дела есть искусство детали, ибо только верно и по-новому убедительно изображенная деталь может заставить поверить правде художника. Поверив детали, читатель поверит всему, что хочет сказать художник. Под деталью не следует понимать лишь деталь пейзажа, интерьера, но и деталь психологическую, на которой держится искусство хотя бы Достоевского.
К тому же деталь пейзажа, интерьера — в большинстве случаев символ, намек на что-то большее, и если эта сторона дела найдена и похожа, деталь приобретает особо веский вид, становится аргументом неотразимым.
Писать правду для художника — это и значит писать индивидуально, ибо правда становится общей уже после того, как она овеществлена в искусстве. Как предмет творчества, правда всегда лична.
Как результат творчества она может быть отведена в критические загоны и клетки, на нее вешают ярлыки, о которых не может думать художник в момент зачатия вещи, в момент, когда никакого другого искусства нет. Гражданские стихи Некрасова, лучшие картины передвижников — это прежде всего искусство для искусства, чистое искусство. А как результат творчества оно может быть поставлено на ту или другую полку, что для художника не должно быть важным. Творческая сила Врубеля свела его с ума, и нетрудно подумать, что клетки мозга человека с его одинокими, индивидуальными видениями такой силы и не могли выдержать правды жизни такого напряжения.
(Конец 1950-х — начало 1960-х)