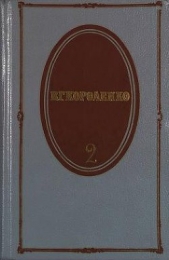Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
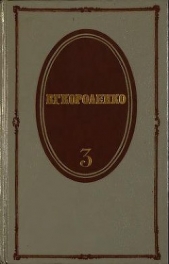
Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика читать книгу онлайн
В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот к каким хитростям приходилось прибегать русскому писателю, который тридцать лет спустя после освобождения крестьян хотел в самой скромной форме говорить в печати о невозможном положении земледельческого народа. В своих очерках я описывал лишь то, что видел. А видел я ужасные вещи, и самое страшное было то, что к этим ужасам привыкли. Лукояновские земские начальники, которые воевали не с голодом, а с попытками кормления голодных, доказывали, между прочим, что никакого голода, в сущности, нет. А если есть голодный тиф, то, говорили они, «ведь это у нас всегда». И это была страшная правда: ни голод, ни голодный тиф не выводились в уезде в самые урожайные годы… Были целые деревни, у которых хлеба хватало только до середины зимы. А с января приходилось нищенствовать. Во многих местах после того, как я кончал списки голодных, которых мы принимали в столовые, мужики окружали меня и говорили:
— А кто же поможет нам?.. Посмотрите на нас: нешто мы жители? Какие мы жители?
«Трудно представить себе, — писал я тогда, — впечатление этих слов: „какие мы жители“, когда целая деревня говорит это о себе… Унижение, потупленные глаза, стыд собственного существования… В одной деревне (Дубровке) у меня потребовали писать в столовую всех подряд…
— Все мы равны, все нищие… Какие мы жители… Земли у нас по пяти сажен на душу.
В некоторых местах составление списков для даровых столовых производило впечатление какого-то страшного кошмара. В словах, которыми характеризовалась бедность, было что-то жгуче-жестокое, устрашающее, отчаянное… „Не дышим… Разорвало от травы… Все помираем…“»
В темных курных избах с низкими потолками стлался низкий нездоровый пар, и стоял гул озлобленных, жестоких определений. Нищие силой проталкивались к моему столу. «Жители», хозяева, отталкивали нищих… «Мы хуже вас… Вы хоть просить привыкли». Бабы беспомощно плакали… Я с какой-то внутренней дрожью замечал себя в положении человека, дразнящего эту толпу напрасными жалкими подачками для нищих, тогда как население иных деревень было сплошь все на положении нищих… Порой прорывались озлобленные вопросы: «Ты что это пишешь? Кто еще такой приехал? Откуда взялся?» Голова начинала кружиться. Признаюсь, была минута, например в деревне Пралевке, когда у меня рождался вопрос: выйду ли я, выйдем ли мы все из этой темной избы?.. Или все ринутся и на меня, и друг на друга в общую свалку?..
Это, конечно, было лишь в некоторых местах, совершенно обделенных землей. По большей части это были так называемые четвертинки или дарственники, не согласившиеся во время освобождения крестьян принять выкупные наделы. Рассказанная выше история пушкинцев повторялась во многих местах, по всему лицу темной России, верившей только в царя. В деревне Дубровке мне показали седого лохматого старика, одного из тех, которые «при выкупе» обездолили Дубровку, не приняв надела. Тут в точности повторилась рассказанная Беляковым история. В Нижнем Новгороде во время освобождения был губернатором Муравьев, декабрист, бывший политический ссыльный, человек истинно доброжелательный к мужикам. Он лично выезжал в Дубровку, уговаривал мужиков взять надел. Об этом и рассказывал этот старик. «Нечего сказать: правду он говорил тогда. Что вы, говорит, мужики. Опомнитесь… Берите надел… Мы не верили… Потом осердился (человек был крутой) и даже принялся сечь…» Но дубровцы уперлись… По этой мужицкой Руси носились сказочные слухи… «Зачем платить за землю? Что господа станут делать с землей? Без крепостных они и сами бросят землю и уедут за границу. А царь отдаст землю мужикам и без выкупных платежей». Но господа не уехали, и над упрямцами нависло опять крепостное право. Помещичья земля сомкнулась вокруг деревни, подошла к самой околице, «курицу некуда выгнать, сохе негде повернуться»… И вот в то время, как в других деревнях и селах рабочим одна плата, «вольная», — для дубровца существует другая, хотя дубровец работает рядом. Землю дубровец арендует дорого, самую плохую, истощенную… Когда на полях уже созрел хлеб, я видел эти поля. По одну сторону дороги моталось на ниве что-то тощее и жалкое, о чем говорят: «Колос от колосу не слышно голосу», а рядом наливался буйный экономический хлеб… «И ведь одни руки работали», — говорили мне дубровцы… Дело в том, что им сдавали самую плохую, выпаханную землю.
Таких четвертников, или дарственников, было много по всей России и на Украине. Все это порождало слепую, темную, но по существу справедливую вражду… «Кабы не Владычица, — говорил мне на дороге к Полетаевскому монастырю встречный местный мужик, — мы бы этот монастырь с четырех концов зажгли… Владычицу обидеть боимся». Оказалось, что монастырь владел землями, отделявшими полосой деревню от реки, и монахини, пользуясь этим истинно «безвыходным» положением, наложили на мужиков тяжелые повинности за простое право прогона скота к водопою…
— Кто же, ваше благородие, поможет нам, прочим жителям? — то и дело спрашивали у меня мужики, когда я кончал составление списков для столовых. Мне приходилось отвечать, что я не «высокородие», никакой власти не имею и в начальниках не числюсь… Но у меня была надежда, что, когда мне удастся огласить все это, когда я громко на всю Россию расскажу об этих дубровцах, пролевцах и петровцах, о том, как они стали «нежителями», как «дурная боль» уничтожает целые деревни, как в самом Лукоянове маленькая девочка просит у матери «зарыть ее живую в земельку», то, быть может, мои статьи смогут оказать хоть некоторое влияние на судьбу этих Дубровок, поставив ребром вопрос о необходимости земельной реформы, хотя бы вначале самой скромной.
Русский писатель — большой оптимист, я тоже русский писатель. Если мне удастся, думал я, обратить внимание хотя бы на эти пределы народного бедствия, на этих «нежителей», если удастся показать, как они остаются до сих пор в прежней крепостной зависимости и к какому справедливому озлоблению это подает повод, то, быть может, начнется некоторое движение в стоячей воде и наконец приступят хоть к этому маленькому уголку реформы… Об ней заговорит литература, ученые общества… Лиха беда начать. В этом деле все так связано одно с другим, что стоит нарушить этот запрет, эту печать невольного молчания, тяготеющего над вопросами земли — и необходимость серьезной земельной реформы выступит сразу во всем объеме…
В июле месяце 1894 года я напечатал в «Русском богатстве» последние, заключительные главы «Голодного года», и мы решили издать его отдельной книгой. Книга была набрана. Но вдруг над нею нависла цензурная гроза…
В Воронеже был вице-губернатор некто Позняк. Покойный писатель Эртель писал мне, что этот вице-губернатор, присутствуя на вечере в пользу голодающих, на котором читались выдержки из моего «Голодного лета», пришел в ужас и с трудом поверил, что все это напечатано в легальной газете. И случилось так, что этот же Позняк был вскоре назначен членом главного управления по делам печати. Одним из первых его дел по вступлении в новую должность была большая докладная записка, составлявшая донос одновременно на меня и на цензурное ведомство, допустившее печатание моих очерков.
«В июльской книжке журнала „Русское богатство“, — писал он, — появились заключительные главы статьи господина Короленко „В голодный год“… Автор задался целью воспроизвести в подробностях печальную картину равнодушия, непредусмотрительности и нерадения, которыми-де грешили многие местные, как земские, так и правительственные, деятели, особенно последние в лице земских начальников, при выяснении степени нужды пострадавшего от неурожая населения, и кстати отметить спасительное значение „добровольцев благотворительности“, явившихся на помощь народу помимо всяких требований и предписаний…»
Надо заметить, что в моей книге я, наоборот, указывал настойчиво и много раз ничтожное значение нашей благотворительности там, где государственная помощь отсутствует или направлена ложно. Так же бесцеремонно Позняк приписывал мне многое, чего я не писал, например, будто власти во время освобождения «насильно принуждали крестьян к принятию так называемых нищенских наделов». И тут я говорил как раз обратное: нижегородский губернатор Муравьев убеждал дубровцев к принятию полного надела, как и мировой судья — пушкинцев. Я не стану дальше отмечать эти «ошибки» цензора, тем более что главную сущность моей книги и мои намерения Позняк передал все-таки довольно верно.