Том 9. Учитель музыки
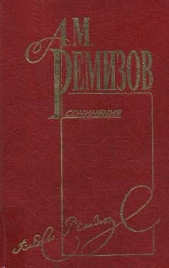
Том 9. Учитель музыки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Старшие иронически относились к колдунам и колдуньям и в хорошие минуты посмеивались над суеверием, но в трудные прибегали, как к «народной медицине», еще действующей и неисследованной на родине Пастера: «не мешает попробовать!»
И Морис опять бегал к «сорсьер» и на этот раз вернулся не с пустыми руками: принес вроде хвоста белый из скрученной ваты, пропитанный чесноком – носить, повязав горло, неделю.
Мать Мориса повязала себе вокруг шеи хвост и к вечеру повеселела: понемногу откашливается, и глотать легче.
Издалека я видел однажды эту «сорсьер» – гнала коров, немолодая уж, но крепкая. Жаль, не пришлось поглядеть поближе.
Мать Мориса, почувствовав себя совсем хорошо, снова стала за плиту, и все было вовремя и порядок в доме. За «динэ» разговор шел о колдуньях, рассказывали всякие случаи – и во всех случаях ясно было действие гипноза, но и еще что-то было, какое-то знание, которое из книг не вычитаешь и не так усваивается, как наша наука. Может быть, это наследство «сверхъестественного» – остаток знания друидов? И эта «бонфам» – друидесса? И опять смеялись.
– Пэр Патлэн рассказывал, – передавали, смеясь, – чтобы сделаться колдуньей, жена его, стоя спиной и не оглядываясь, поймала крота.
Как Морису не понятно, что «животные чище человека», так я не понял, что тут такого, стоя спиной, не глядя, поймать крота. Мне объяснили. И я понимаю, сколько значения было в этих словах пэра Патлэна.
На другой день дети принесли мне мертвого крота. И так смотрели, будто сами они управились с «кротом», как заправские колдуны, – конечно, не они это поймали, а кот Фрипон, и не не глядя, как бонфам-сорсьер, а самым зверским приемом, притаившись и зорко – в кротиный час. Я всего рассмотрел крота – его медвежьи лапки и свиное рыльце, и потрогал: какой мягкий! Нет, он совсем не «саль бет». Раздумывал о нем – о его странной судьбе с его зрением наоборот: что нам свет, ему тьма. Хотелось мне его живьем посмотреть. Звали меня караулить в кротиный час – в те часы, когда крот роет землю, и целый час я прождал, вот из-под земли покажет свои когтистые лапки – да терпенья не хватило. Нет, из меня никогда не выйдет колдун!
И тут опять говорят – слышу – куаффер Альфред.
– Куаффер Альфред, – говорят, – внук этой бонфам сорсьер.
И совсем неожиданно я его увидел.
Случайно заглянул я в окно на дорогу – на море что-то не просто поварчивало, верно, к ночи разыграется буря, – как я люблю это дикое море, гул и крик ветра, эти темные первородные голоса – которым в ответ мой голос моего сердца – та же буря и ночь! – и вот в траве около виноградных гряд увидел я: видит – зеленый, как трава, и с тоненькой шейкой, как стебелек.
И когда я рассказал, что видел странного мальчика, и почему он неподвижно сидел в траве?
– Да это и есть куаффер Альфред. Перед бурей у него болит сердце, вот он так и сидит неподвижно.
– Но почему он такой зеленый?
– Слабый, питается плохо: мули, палюрды – вот и все, и никогда не дают мяса.
Я подумал: от бедности.
– Нет, – говорят, – вовсе не бедные: отец служит на железной дороге – чистильщик вагонов, мать – хозяйка, продает молоко, бабушка – сорсьер. Совсем не бедные. Это мать и прочит его в куафферы: выгодное мэтье.
А вскоре и появился Альфред.
Затеяли сниматься. Собрали всю Академию: Жан, Ренэ, Бенжамен, Морис, Морис Второй и Альфред. И тут я разглядел его: его глаза – зрачки, как палочки. Он робко поздоровался со мной: такое было, что убежит. И когда все смеялись, он ни разу не улыбнулся. Жалко мне его было, а и еще жальче стало: сразу видно, больной. Пробовал я с ним заговаривать, но на все мои вопросы он отвечал как-то вздохом из вздоха: «вв-уй». Или молчит.
Сниматься ему понравилось. И с этого дня он стал приходить: он был уверен, что будут сниматься каждый день. Его кормили. Потом он играл в автокары с Морисом.
Дети ни во что не верят. Они переняли «Калечину-Малечину» и скачут с палкой, они повторяют «Чучела-чумичела», все заключая неизменным полюбившимся «не-ет». И когда я попробовал рассказать какие это странные духи водятся на русской земле – все они только улыбались: нет никаких духов, и все это только сказки…
– Не-ет!
Поздним вечером я провожал Мориса к колодцу, – колодец в подвале. Морис боится ходить один, и я нарочно пошел проверить. Да, он боится, ему просто жутко: в подвале темно и сыро. Но это пройдет.
В церкви давали концерт: приезжий украинский хор – униаты. И когда запели о «Почаевской Богородице» – в угой песне собрано столько боли векового народного горя, и последняя мольба и единственная надежда; от внезапной радости умирают, но плач о грехе и плач о беде, когда нет избавления, это такая боль, и все взвеяно песней… которая и каменного тронет – Морис зевал, посматривая на программу, скоро ли кончится. И потом, во время «бенедиксион», под колокольчик Морис нагнул голову и оставался неподвижен до колокольчика: потому что боялся кюре, как темного и сырого подвала, – «кюре очень строгий, и его никто не любит».
– А Альфред во все верит! – сказал Морис.
И, действительно, когда я рассказывал Альфреду всякие чудеса, и арабские – из Шахразады, и наши – из «Посолони», про кикимор, боли-бошку, куринаса и про джиннов, и как «гуль» – наша «полудница» подстерегает одиноких путников и губит, и как я видел здесь, на берегу: – ни лица, ни глаз, только ноги и хвост –
– Вв-уй.
И как Калечина-Малечина прыгает в сумерки на своей одной ножке, одноглазая и однорукая –
– Вв-уй.
Альфред один из всех верил в «серпан» – в ту самую змею, которую никто никогда не видел и которая в лунные ночи появляется на дороге и «ходит», ест «мюры» – ежевику. И верил в «бугр-бугра»: боном на гусиных лапах – его тоже никто не видел – в красном фартуке, на левой руке четыре пальца, а может перенести любой и самый тяжелый камень – менгир.
И когда я Альфреду показал на каменной стене вырезанную в осеннюю бурю отчаянным хлестом прутьев странную фигуру с лицом нечеловеческим – «эспри дома» – домового –
– Вв-уй.
И мне его было очень жалко: без улыбки, бледный до зелени и эти глаза… – «С ума сойдет, с такими глазами плохо кончают!» – вспомнилось, сказала мать Мориса.
– Ты будешь куаффер? – спросил я Альфреда.
– Вв-уй.
– Но ты хочешь быть куаффером?
Но, вместо ответа, на меня глядели глаза со зрачками, как вытянутое язычком пламя, глаза, видящие больше – чего никто не видел, может быть, переданные от его бабушки – «сорсьер».
6. Акробат
Зосима Злобин 248 весной появился в Париже из Москвы с театром Мейерхольда 249. И до глубокой осени не оставлял нас, днюя и ночуя в нашем Булонском вертепе: наша квартира – под боком лес, из Парижа нарочно приезжают, а нам за дверь и попал.
Зосима стихами не занимался – нынче всякий лентяй пишет стихи – молчальник по природе. Не одиночка, в Вологде такие нетопыри водятся в изобилии: леса, реки и белые ночи с комарами замалчивают душу.
Акробат, – выйдешь с ним на Елисейские поля, наше avenue Jean-Baptiste-Clement идет до остановки автобуса «колесом», прохожие только пучат пялки, а автомобили рукой машут, скрежеща: «salaud». Или примется прыгать с палкой через голову, и все на людях, смотреть жутко: вот шею себе свернет, а бережливому страшно за его палку, выдержит ли и надолго ль?
Зосима и фокусы показывает, глазам не поверишь. Не говоря ни слова, воткнет себе в руку английскую булавку, зашпилит и, передохнув, вытащит. И получается только ссадина, ни кровинки.
Много тыкать он не соглашался, а очень это всем нравилось: «проткни еще!» – так скажут: на противоприродное глаз человеческий жаден.
И в хиромантии немножечко понимал: по руке судьбу расскажет – в линиях и загибах по пересеку доберется до самого «было» и «будет». И на картах погадать может. Я ему подсовывал Сведенборга 250 и тибетские Бурхан-Мандшишира, – «не годятся». Я понимаю, ему давай не картинки, была б масть и число: самоговорящие картинки закрывают соображение и догадку и гасят игру гадальщика.
























