Том 9. Учитель музыки
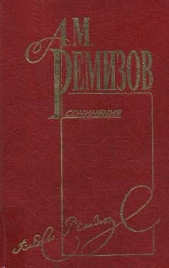
Том 9. Учитель музыки читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Какое ясное утро – первый весенний день! «И жизнь, как посмотришь»… – вспоминаю сон, – но эти Козлокские десять франков и никуда мне не надо идти за свидетельством… да и не знаю я, к кому еще обратиться?
Я иду так по нашей улице – свободный от «бедности»; «бедностью» в старину называлась «тюрьма». «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – такая пустая и глупая шутка»…
«Ветхий Адам», нет, просто старик Адам, потому что «ветхий» предполагает другого «нового» – «поновленного», омоложенного «благодатью». «Старик Адам» – у старика «задатки» еще имеются: первые весенние дни, – я чую, – «станок поставил». И я нарисовал картинку – все, что я встречаю днем или ночью во сне, я всегда рисую: вот на нашей улице, с такими выгибами, что встречным, не толкнув друг друга, не разойтись, «mademoiselle Pédon et son cabot» 233 (подпись к картинке) – неизменный и верный ее Тотор, встретив на таком неминуемом выгибе тротуара неизвестную мне Флоранс, первые заявили о весне. Проходивший мимо кюре уткнулся в молитвенник, очень заинтересовались ребятишки – они гурьбой шли из школы, ища «авантюр» – и как обрадовались невиданному осьминогому чудовищу: на одном туловище по концам две морды! А мадемуазель Пэдон, крепко держа на ремне своего Тотора, наблюдала первое явление весны – этот первый весенний клич, и с таким сияющим лицом – однажды в год ей выпадает такое счастье! – можно было смело сказать, что от ее лица и исходил и свет и тепло первого весеннего дня. С этого дня я с нею раскланиваюсь, а знаю ее и ее кабо еще с осени. Тотор питается из ордюров: поздно вечером, когда я подходил к калитке, Тотор, выпростав морду из «пубеля», схватил меня за рукав. Я уверен, что он меня принял за свежий ордюр: я с моим образцовым «анализом» и выброшенные кости, ботва и всякая полежалая дрянь – никакой разницы! И тут, в это яркое утро, никакого стеснения: так естественно и ему повезло – случайная встреча с Флоранс. И никогда не поймет, если я скажу: «и совсем не случайная» – ведь и хозяин этой Флоранс стоял тут же и изводил своими разговорами – известный «кабо!» – счастливую, счастливей своего «кабо», мадемуазель Пэдон. Тотор делал свое дело, чего ж стесняться!
Старик Адам! ты этого никогда не поймешь и никогда не примешь… о «деловых отношениях» мечтал, кажется, единственный Розанов, но как это чуждо в веках сложившейся «человеческой природе» с ее «грехом» и «стыдливостью». И старик, наверное, там где-нибудь за пустырем устроился, загороженный от любопытных глаз соблазнительной рекламой: «buvez les vins du Postillon» 234, и, если бы увидел меня, близорукого, открыто смотрящего на мир со всем моим сознанием всего значения веса и тяготы «природы», «греха», «стыдливости» и «предрассудков» и горчайшим чувством моим перед «человеческой бедностью» и перед своей «беднотой», или увидел бы уткнувшегося в молитвенник кюре, который, предполагается, не смотрит по сторонам и ничего не видит, что вокруг, очень бы сконфузился, ну, и не обознался бы, как Тотор, принявший меня за ордюр, и когда окончится церемония, повторяю, задатки еще имеются, туркнется за хлебом и говядиной – и мясные и булочные тут же, где живописно расположилось осьминогое чудовище о двух мордах по концам. А хороша будет порода: отец и мать сытые, и виден хозяйский глаз – чистые, умные зародятся псы, ласковые собаки с тем особенным запахом здоровой псины… Одну такую на днях переехал автомобиль: с улицы перенесли ее на тротуар к угловому колониальному магазину, где за покупку неохотно выдают обещанный талон – надо набрать сто талонов, чтобы получить премию! – и уж как бывают довольны, если покупатель не напомнит, а я никогда не напомню по моей «запуганности» – и откуда это у меня такое прогрессирующее «стеснение»? – или это никогда не покидающее меня «стоит ли? и неловко!» – «случайно или забыли?» – «и разве это важно – талон и какая-то пустяковая премия?» На тротуаре около методически мелющей электрической кофейной мельницы – не могу помириться, что где-то в Бразилии жгут и топят тысячи мешков кофею! – носом к мельнице, распространяющей чудесный запах наперекор выбивающемуся чаду тут же поджариваемого кофе, лежала задавленная автомобилем собака, и все прохожие останавливались. И я, сквозь чад вдыхая кофейный воздух и негодуя на американское сожжение – какая скаредная расчетливость и алчная безрасчетность! – я тоже постоял над мертвой собакой: она была прекрасна и ее лоснящаяся шерсть – волк, не собака! Человек умирает семейно, зверь в одиночку, а тут у всех на глазах – труп: какое кощунство! Человеку в его «грехе» открылась «смерть», человек – «царь времени», не больше, но перед «безгрешным» зверем только жизнь и гнетущее предчувствие и в этой бесконечной жизни никакой тайны, ничего, чтобы скрываться или скрывать. Да такой и в голову не придет заводить плутню с премированными талонами или, когда мне не на что кофе купить, сжечь тысячи мешков, на которые не находится покупателя. У этих безгрешных зверей, которые легко могут обознаться с голодухи, как в случае со мной, и нисколько не стесняющихся воспользоваться «естественным моментом» и как часто одураченных – ведь Тотор убежден, что «нашел» Флоранс, а вовсе не то, что бы свел его хозяин, уговорившись с мадемуазель Пэдон! – у этих простодушных зверей нет никакого «первородного греха», ничего они не преступили – не нарушили никакой заповеди, у них только «кровь» и только «от крови» и «по крови», и ничего «не взыскуется» и один закон – безусловное: «множьтесь и наполняйте землю», по нюху подбирая себе пару. Вот и весь круг – собачья или лисичья или еще какого зверя зверовича судьба! но эта задавленная автомобилем – разве это не взыск? Так ли это, что и в безгрешном мире не взыскуется…? Но я не могу представить себе, чтобы и у них возможна была вдруг вонзающаяся в сердце боль, – та боль, которую Гоголь подметил в песне, «всегда неразлучной с унынием», та самая боль, которая настигает человека и в райском безмятежном житии «Старосветских помещиков», которая неожиданно, точно из-под земли подымется, и всякому покою и тишине, всякому «счастью» конец. Грех и добавлю: плач о грехе – боль, смерть – вот круг человеческий, человеческая судьба. А ведь и эта задавленная собака, ничего не подозревая, с «чистой совестью» уверенно перебегала на ту сторону, торопясь по тому же самому благословенному «производственному» делу, и вот наскочивший автомобиль хлоп колесом – прямо по брюху – и дух вон, и ни капельки-то крови! – а за что? – за неосторожность и неосмотрительность? Нет, что-то и у «безгрешных» взыскуется. Или неосмотрительность, за которую так бесповоротно и жестоко поплатилась она – и это то же, что «обозналась»: ведь другой на моем месте обознавшегося Тотора, принявшего меня за свежий ордюр, мог вгорячах так садануть – и подвернувшемуся под тяжелую руку Тотору ничего не осталось бы, как, подняв лапы кверху, издохнуть. И тут ясно, да, какой-то взыск – расправа за «житейское», может быть, за глупость, но никак никакой «первородный грех». «Первородный грех» – человеческое и только человеческое: боль и та бездонная чернота в самом существе человеческом, от которой в мире пролито так много слез и было и есть ожесточение. Все эти ожесточенные религиозные споры в Византии о словах, и только о словах, споры, кончавшиеся преследованиями, заточениями и казнью, и то же при инквизиции, – и при этом все «за совесть» и «по совести». Жалко мне собаку – жалко зверей с их откровенно перекатывающимися шариками, когда, помахивая хвостом, бежит который-нибудь по своему, мне непонятному делу. Конечно, и никакой нашей «совести», бессовестные – ни один зверь не съедает другого по совести, это только люди – их преимущество! – ни совести, ни гениальности, и вообще никакого «порока», никакого «уклона природных свойств» – уклона от нормы, от того, что выработалось в веках и стало привычным и с веками утвердилось, как «закон природы». Я думаю не о пьяницах, к которым чувствую непреодолимое влечение и знаю, как трудно иметь с ними и самое пустяшное дело, или какое надо иметь терпение и выдержку, чтобы что-нибудь сладить наверняка; я думаю не о игроках, которых мне жалко и за которых страшно – испытывать судьбу не безнаказанно! – знаю, что азарт и риск может погубить всякое дело, хотя, как и всякое, настоящее дело и делается-то при непременном условии азарта и риска; я думаю не о «истекающих» женщинах, которые безудержно лгут и не властны победить в себе этот «порок», хотя бы и раскаивались и мучились, их постоянная неверность подточит всякое дело; я думаю не о «свистунах» – «аривистах», для которых вы всегда только одна из ступеней той лестницы, по которой они карабкаются, чтобы выйти в люди, и неверны, как эти изолгавшиеся от «недержания» женщины, неисправимые… впрочем, нет, я вспомнил средство из Шахразады, этих еще можно поправить, если окурить их фардж парами уксуса с алоэ или, по Гоголю, плюнуть в их хвост; я думаю не о дураках – этих недорожденных с органическим пороком полузрения, полуслуха, получувства. Я думаю о Эдипе, о сыновьях Лота и о многом, что остается скрыто и тайной даже для ближайших, о чем «история умалчивает» и что можно иногда узнать из подрооных «мелочных» биографий великих людей, а больше из их творчества, где уж не может быть никакой подделки под «приличие». И только через «порок» – «преступление» мне представляется единственная возможность «открыть тайну», «разгадать загадку». Надо как-то «разладиться», как-то поступить «наперекор», «противоестественно», иначе сотрет, сровняет – ведь каждый самостоятельный шаг человека, только и только для него имеющий значение, как и все открытия, все чудеса… ученые, святые, пророки и просто человек, которого различаешь из толпы, никогда не от согласия, а всегда от нарушения принятой и установившейся «нормы» или от уклона от этой нормы. С папироской вальяжно никаких дел сделать невозможно, разве что пройти за нуждой. И мне кажется, что «физиологическое» направление в литературе – описание всяких «нужных» дел и лирические слащавые размышления о этих делах, ничего не откроют о человеке, о «тайне» человека – все эти дела естественные, а там, где дело идет только о естественном, там ноль – пустая бумага. И так же мне представляется и разговор и сочинения о предметах «важных» и «значительных»: ни разговор, ни сочинения ничего не могут представить ни важного, ни значительного, если говорится или пишется с той же самой легкостью, с какой рассказывают анекдоты или о знаменитых выеденных яйцах: можно нагородить тысячу великих имен и ничего не останется, и вовсе не из-за неуменья выражаться, а только из-за легкости сердца. Только питаясь и только ведя «нормальный» образ жизни, далеко не уйдешь. Горная болезнь начинается на высоте 5300 метров, и на высоте 7-8000 метров необходимо дыхание искусственным кислородом и, стало быть, чтобы овладеть пространством, требуется уклон от нормы. Есть «физическая» стратосфера, до которой проникнуть так, без чего-то, обыкновенным порядком никак невозможно, а есть и «духовная» стратосфера, до которой, ведя нормальный образ жизни, никогда не доберешься. Да, надо и на какой-то духовной высоте искусственнное дыхание, и это давно поняли – и что такое, на самом деле, оккультная гимнастика с «выхождением из себя» или хлыстовские – скопческие радения, изощренность дервишей и чудеса йогов, имясловство «старцев», ведовская мазь, пост, ночные стояния, оскопление, и всевозможные виды «переключения» или, наконец, совсем незаметный для глаз «чудаческий», а в сущности подвижнический образ жизни ученого? И есть еще одно неписаное средство, не зарегистрированное ни в каких скитских уставах и «лествицах», это игра самой судьбы: всякие несчастные события в жизни с непременным изводящим душу терпением, выбивающие человека из нормы, вырабатывают в человеке силы дышать на той духовной высоте, где нормальный человек, привыкший к удобной обстановке, задохнется, и никогда не осмелится погрузиться или, что то же, подняться. И еще есть – тут работа природы, ее «слепых» сил – так уж бывает устроен человек с «уклоном», не «под стать», с «пороком», «ненормально», или перестраивается той же природой – в детстве Гоголь слышал полдневные окликающие голоса; оттого ли он слышал, что у него болели уши или у него уши деформировались, потому что он слышал голоса, не воспринимаемые нормальным ухом?
























