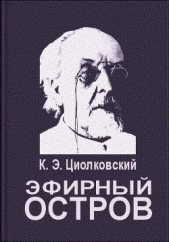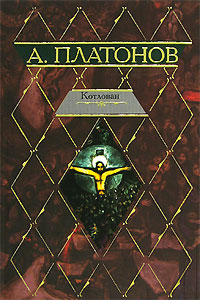Том 3. Эфирный тракт

Том 3. Эфирный тракт читать книгу онлайн
Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.
В эту книгу вошли повести 1920-х — начала 1930-х годов «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы», «Город Градов», «Сокровенный человек», «Ямская слобода», «Впрок», «Ювенильное море», «Хлеб и чтение». Повесть «Хлеб и чтение» (реконструкция текста Н.В. Корниенко) публикуется впервые.
Повести «Эфирный тракт» и «Город Градов», издававшиеся раньше в искаженном цензурой и редактурой виде, публикуются в авторской редакции (из аннотации оригинального издания; в файле тексты представлены в старых вариантах).
http://ruslit.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Меж тем Умрищев совершал свои замечания по гурту. Выйдя в пекарню, он отпробовал хлеба и сказал ближним подчиненным: «Печь более вкусный хлеб». Все согласились. Выйдя наружу, он вдруг задумался и указал Високовскому и Божеву: «Серьезно продумать все формы и недостатки». Божев сейчас же записал эти слова в свою книжку. Увидя какого-то человека, тихо шедшего стороною, Умрищев произнес: «Усилить трудовую дисциплину». Здесь что-то помешало Умрищеву идти дальше, он стал на месте и показал в землю: «Сорвать былинку на пешеходной тропинке, а то бьет по ногам и мешает сосредоточиться». Божев наклонился было, чтобы сразу уничтожить былинку, но Умрищев остановил его: «Ты сразу в дело не суйся, ты сначала запиши его, а потом изучи, — я же говорю принципиально: не только про эту былинку, а вообще, про все былинки в мире». Божев спешно записал, а Високовский шел рядом, ничего не говоря и не делая. Вскоре на тропинку выбежал кролик и от внезапного ужаса не мог бежать и стал на задние ноги, обратив лицо прямо к людям.
— Хорошее животное! — оценил Умрищев кролика.
— Да, оно ничего: оно милое, Адриан Филиппович! — согласился Божев.
Невдалеке показалась свинья; она подошла к Умрищеву и покрутила около него хвостом, что также понравилось Умрищеву, и он одобрил это животное.
Но зато, придя в служебный кабинет Високовского, Умрищев сразу почувствовал ярость. В самом деле — в кабинете было кругом нечисто, имелись следы и остатки каких-то огромных животных, точно сюда приходили по делам быки, пригибаясь в дверях; бумаги лежали под бутылками с мочой больных коров, стены не имели убранства и были покрыты рваными итоговыми данными, и на стуле у стола сидел, как посетитель, подсвинок.
— Это ж государственная измена! — воскликнул Умрищев в кабинете. — Вы весь авторитет нашего руководства роняете вниз! — закричал он по направлению к Високовскому. — Вас скотина здесь не уважает, а вы целым штатом хотите руководить! За такие кабинеты надо вон с отметкой увольнять!
— Тише, начальник, — попросил Високовский, — говорите негромко; я вас услышу все равно.
— Вас бы надо гидрометеором по голове, — потише сказал Умрищев, — чтоб вы почувствовали что-то.
— Гидрометеор — это дождь, товарищ Умрищев, — равнодушно заявил Високовский.
— Я имею в виду тот дождь, — объяснил Умрищев, — который шел при Иоанне Грозном — каменный, исторический дождь!
Вслед за тем Умрищев велел Божеву позвать гуртового кузнеца Кемаля, убогого глухонемого счетовода Тишкина, профуполномоченного, старушку Федератовну, а заодно и Босталоеву с явившимся зачем-то инженер-музыкантом. Умрищев любил иногда собрать, как родню, подчиненный аппарат в кучу и поговорить с ним по душам, не составляя повестки дня.
Босталоева вошла в свое новое жилище, а Вермо остановился у входа. Это было временное общежитие, построенное из земли и покрытое для крепости дерном.
На правой половине земляной горницы лежали во сне усталые доярки и телятницы, а налево храпели пастухи, водоносы, колодезники, случники, студенты-ветеринары и прочие профессии; некоторые же сидели на земляном полу и писали письма далеким товарищам или читали книги, чертили изображения и думали, облокотившись на руку.
Тут же, в сенях общежития, на большом столе для кружковых занятий лежал мертвый человек. Он был покрыт красным сукном, но одна небольшая старая женщина приоткрыла сукно у изголовья мертвеца и гладила свободной рукой чье-то остывшее лицо.
— Это Айна? — спросила Босталоева у той устарелой женщины.
— Да — то кто же! — раздражительно ответила бочонковидная старушка и обернулась своим лицом, похожим на блюдцеобразное озеро.
Вермо подошел со стороны и загляделся на покойницу. Смуглая девушка, наверно киргизка, лежала навзничь с постаревшим грустным лицом и открыла рот от последней слабости. Босталоева приподняла покрывало на покойнице и стала ощупывать своей рукой тело Айны, будто разыскивая следы смерти и тайное место гибели человека. Инженер так же близко наклонился над скончавшейся; он увидел опухшее от женственности тело, уже копившее запасы для будущего материнства, и терпеливые рабочие руки, без силы сложенные на животе; Вермо разглядел полотно рубашки, которое повсеместно выдавали ударницам, и почувствовал запах еще сохранившегося пота и прочих отходов уже умолкшей, трудной жизни; но смерти нигде не было заметно.
Тогда Босталоева отвернула ворот на горле Айны, и все увидели темный запекшийся рубец вокруг шеи — след от бечевы, которая перерезала гортань и сожгла дыханье этой девушки.
Здесь пришел Афанасий Божев и позвал Босталоеву с инженером на совещание.
— Ведь миллиарды разных людей умерли бесполезно, сказал Божев. — Что же вы одну-то стоите жалеете! Мало ли на свете жителей осталось!.. Жалейте хоть меня, если в вас гнилой либерализм бушует!
— Всех жалеть не нужно, — заявила старушка, бывшая тут, — многих нужно убить…
Сказав это, пожилая рабочая отвернула от горя свое лицо, и все промолчали, не понимая значения ее речи, а потом ушли на гуртовое совещание.
Когда Божев привел Босталоеву и Вермо, Умрищев уже давно говорил, сам не понимая о чем, а только чувствуя что-то доброе. Он развивал перед присутствующими различные картины мероприятий, например, предлагал так организовать все гуртовые работы, чтобы каждый уж молчал постоянно, делал по раз запущенному порядку свое узкое, мирное дело и ни во что не совался.
— Каждому трудящемуся надо дать в его собственность небольшое царство труда — пусть он копается в нем непрерывно и будет вечно счастлив, — развивал Умрищев вслух свое воображение. — Один, например, чистит скотоместа, другой чинит по степи срубовые колодцы, третий пробует просто молоко — какое скисло, какое нет, — каждый делает планово свое дело, и некуда ему больше соваться. Я считаю, что такая установка даст возможность опомниться мне и всему руководящему персоналу от текущих дел, которые перестанут к тому времени течь. Пора, товарищи, социализм сделать не суетой, а заботой миллионов.
Собрание молчало; старушка Федератовна уже загорюнилась, облокотившись на коричневую руку; она знала, что ей думать, и глядела на Умрищева, как на подлого.
— Что здесь такое? — спросила Босталоева. — Что мы обсуждаем и какая повестка дня?
— Я ничего не понимаю, — со сдержанной враждебностью объяснил Високовский, — обратитесь к товарищу директору: он должен знать.
Високовский, презирая Умрищева, начинал распространять свое холодное чувство уже гораздо шире, может быть, на весь руководящий персонал советского скотоводства, Босталоева это поняла.
— А теперь слушайте меня дальше, — говорил Умрищев. — Есть еще разные неопределенные вопросы, изученные мною по старинной и по советской печати. У грабарей дети рожаются весной, у вальщиков — среди лета, у гуртоправов — к осени, у шоферов — зимой, монтажницы отделываются к марту месяцу, а доярки в марте только починают; поздно-поздно, голубушки, починаете — летом носить ведь жарко будет!..
— Да что ты скучаешь-то все, батюшка: то жарко, то тяжко, — осерчала старушка, — да мы вытерпим!
Умрищев только теперь обратил свой взгляд на ту старушку, и вдруг все его задумчивое лицо сделалось ласковым и снисходительным.
— Стару-у-шка! — сказал он с глубоким сочувствием.
— Старичок! — настолько же ласково произнесла старушка.
— Ты что ж — существуешь?
— А что ж мне больше делать-то, батюшка? — подробно говорила старушка. — Привыкла и живу себе.
— А тебе ничего, не странно жить-то?
— Да мне ничего… Я только интервенции боюсь, а больше ничего… Бессонница еще мучает меня — по всей республике громовень, стуковень идет, разве тут уснешь!
Здесь Умрищев даже удивился:
— Интервенция?! А ты знаешь это понятие? Что ты во все слова суешься?..
— Знаю, батюшка. Я все знаю — я культурная старушка.
— Ты, наверно, Кузьминишна?! — догадывался Умрищев.
— Нет, батюшка, — ответила старушка, — я Федератовна. Кузьминишной я уже была.