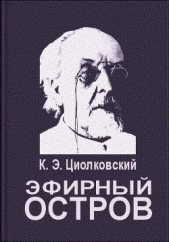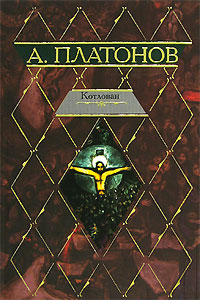Том 3. Эфирный тракт

Том 3. Эфирный тракт читать книгу онлайн
Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.
В эту книгу вошли повести 1920-х — начала 1930-х годов «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы», «Город Градов», «Сокровенный человек», «Ямская слобода», «Впрок», «Ювенильное море», «Хлеб и чтение». Повесть «Хлеб и чтение» (реконструкция текста Н.В. Корниенко) публикуется впервые.
Повести «Эфирный тракт» и «Город Градов», издававшиеся раньше в искаженном цензурой и редактурой виде, публикуются в авторской редакции (из аннотации оригинального издания; в файле тексты представлены в старых вариантах).
http://ruslit.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда-то невыясненные громадным хором пели этот романс в буднее время и вытирали глаза от слез и тоски бездеятельности. Именно этот романс они сердечно любили и гремели его во все голоса где-нибудь среди рабочего дня. После сборища невыясненные расходились кто куда мог: кто уже имел комнату, кто жил где-нибудь из милости, а наибольшее количество расходилось по отраслевым учреждениям своего ведомства; в этих учреждениях невыясненные ночевали и принимали любовниц, — один невыясненный успел уже настолько влюбиться в какую-то сотрудницу, что от ревности ранил ее после занятий чернильницей месткома. Кроме того, невыясненные звонили по казенным телефонам между собой, играли в шашки с ночными сторожами, читали от скорби архивы и писали письма родственникам на бланках отношений. По ночам невыясненные падали со столов, потому что видели страшные сны, а утром одевались поскорее до прихода служащих, выметали мусор и шли в буфет есть первые бутерброды. Когда же, бывало, вовсе ободняется, невыясненные шли в секторы кадров, к которым они были приписаны, и спрашивали замедленными голосами, уже боясь втайне, что их наконец выяснили и предпишут назначение: «Ну как?» — «Да пока еще никак, — отвечает, бывало, сектор. — Вот у вас есть в деле справочка, что вы один месяц болели — надо выяснить, нет ли тут чего более серьезного, чем болезнь». Невыясненный уходил прочь и, чтобы прожить поскорее служебное время, когда его ночлежное учреждение заселено штатами, заходил во все уборные и не спешил оставлять их; выйдя же оттуда, читал сплошь попутные стенгазеты, придумывал свои мнения по затронутым вопросам, а иногда давал даже свою собственную заметку о каком-либо замеченном непорядке как единичном явлении. Некоторые невыясненные состояли в своем положении по году; таким говорили, что вот уже скоро они поедут на работу: осталось только выяснить, почему они не сигнализировали своевременно о какой-либо опасности отставания, когда еще были в прошлом на постах, или — почему ниоткуда не видно, что он не подвергался каким-либо местным взысканиям по соответствующим линиям, — нет ли здесь скрытых признаков кумовства: именно в том, что послужной список слишком непорочный. Невыясненный начинал уже серьезно и, главное, тоскливо сознавать, что он ведь действительно смутный, невыясненный и определенно пагубный человек: что-то в нем есть такое скрытое и вредное, объективно очевидное, а лично неизвестное. Он шел тогда с горя в бухгалтерию доказывать, что два месяца не пользовался выходными днями и, получив за них содержание, направлялся к друзьям и товарищам пить пиво и петь романсы среди дня. Один из невыясненных уже настолько полюбил свою волю и безответственность, что когда его действительно куда-то назначили — сурово отказался. Он тихо сообщил про свою глубоко скрытую болезнь, которую он даже сам не чувствует, но которая, однако, в нем находится. Ему ответили, что скрывание болезни есть та же симуляция, а за симуляцию — суд; и этот невыясненный как бы сошел впоследствии немного с ума.
Сам Умрищев опростался от невыясненности лишь случайно: он вышел однажды в скучный день из учреждения и заметил, что некий человек звал взмахом руки машину. Машина к нему подъехала, и человек сел в нее для поездки. «Слушай, — сказал тогда Умрищев, — подбрось-ка и меня куда-нибудь». — «Почему?» — озадачился из машины человек. «Потому что я член союза и ты член: мы же товарищи!» Человек в автомобиле вначале задумался, а потом сказал: «Садись»; в дороге же он задумался еще более, точно вспомнил нечто простое и влекущее, как печной дым над теплым колхозом зимой.
Незнакомый человек привез Умрищева к себе в гости: жена-комсомолка дала обоим прибывшим обед и чай, а затем муж-начальник выслушал на полный желудок и сонную голову беду Умрищева. Жена при этом начала кустарно точить мужа, что он есть худший вид оппортуниста, что он потворщик рвачества и заражен гнилым либерализмом, — если так будет продолжаться, она не сможет с ним жить. Муж поник от чувствительного стыда, потому что в словах жены была существенная правда, а наутро он дал Умрищеву назначение в мясосовхоз, чтобы человек довыяснился на практической работе. Заодно муж комсомолки разверстал весь резерв невыясненных и предал суду десять служащих своего ведомства, дабы они имели случай опомниться от своих дел. Вечером же, доложив жене, муж получил от последней тот ударный поцелуй, который он всегда предпочитал иметь.
Чем больше объяснял Умрищев свое течение жизни, тем грустнее становился Вермо; даже изо рта старика, благодаря его уставшему дыханию, выходила скука старости и сомнении. Светлые глаза Вермо, темневшие от счастья и бледневшие от печали, сейчас стали видными насквозь и пустыми, как несуществующие. Прибывший пешеход участвовал в пролетарском воодушевлении жизни и вместе с лучшими друзьями скапливал посредством творчества и строительства вещество для той радости, которая стоит в высотах нашей истории. Он уже имел, как миллионы прочих, предчувствие всеобщего будущего, предчувствие, наполнявшее его сердце избыточной силой, — он мог чувствовать даже мертвое, даже основную причину землетрясения и вулканических сил, но вот сидел перед ним старый человек, который не производил на него никакого ощущения, точно живший ранее начала летосчисления. Быть может, поэтому Умрищев с такой охотностью читал Иоанна Грозного, потому что ясно сознавал невзгоду своей жизни — ведь все враги сейчас сознательны — и глубоко, хотя и чисто исторически, уважал целесообразность татарского ига и разумно не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова.
Ночь, теряя свой смысл, заканчивалась; за окном землебитного жилища уже начал прозябать день, и небо покрылось бледностью рассвета: сырая и изможденная, всюду лежала еще ничем не выдающаяся земля, и лишь кое-где на ней стала шевелиться и вскрикивать разнохарактерная живность.
Вермо сидел неподвижно: он видел раннюю бледность мира в окне и слушал начинающееся смятение жизни. Однако это не был тот напев будущего, в который он беспрерывно и тщетно вникал, — это был обычный веков ой шум, счастливый на заре, но равнодушный и безотрадный впоследствии.
Умрищев, потеряв интерес к гостю, снова приступил к своему медленному чтению старины, иногда улыбаясь какой-нибудь ветхой шутке, а иногда вытирая слезы сочувственной печали, тем более что он встретил описание того грустного факта, как однажды, при воцарении Грозного с неба пошел каменный и мелкозернистый дождь, отчего немало случилось повреждения тогдашнему историческому населению.
— Вот были люди и происшествия, — сказал Умрищев, утешаясь книгой, и стал читать вслух: — «Царь Иван захотел однажды на святки, имея доброе самочувствие, установить в Китай-городе баловство пищей. Для чего он указал боярину Щекотову привесть откуда ни на есть в тот Китай-город до 70 сбитеньщиков, 45 харчевников, 30 крупенников, 14 обжарщиков и прочую пищевую силу по одному либо по два человека на каждую сортовую еду. Но люди торговые и промысловые откупились от той милости, дабы не соваться в неиспытанное, а сговорились меж собой есть до смерти добрые домашние щи либо тюрю». — Умрищев здесь отринулся от чтения и довольно улыбнулся:
— Да у нас в один районный центр требуется больше пищевиков, чем во весь Китай-город: минималисты были, черти, одну тюрю любили!
Николай Вермо уже давно соскучился с этим неясным человеком и встал, чтоб уйти прочь, тем более что на дворе уже разгорался новый день, а здесь горела лампа.
— Ну, я пойду, — стеснительно сказал Вермо. — До свиданья.
— Ступай и не суйся, — ответил директор. — Чем старина сама себя пережила: она не совалась!.. Ступай, а то мне тоже вскоре надо поехать кой-куда: окоротить сующихся…