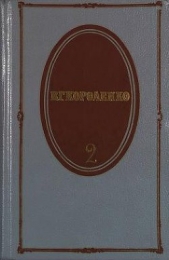Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
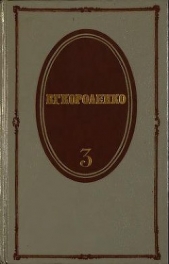
Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика читать книгу онлайн
В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И затем — несколько заключительных фраз в том же роде…
Так передана эта речь в официальных отчетах, но в изложении Воронина она звучала совершенно иначе.
— Да что тут говорить, — горячо отмахнулся он, когда кто-то из присутствующих напомнил, что речь была напечатана в «Губернских ведомостях» и текст ее есть у А. С. Гациского. — Что там официальные отчеты! Небо и земля. Напечатано, как было заранее заготовлено, а царь говорил не по их бумажкам… До сих пор вот… Закрою глаза — вижу эту фигуру. Прямой этакой, голова откинута, брови сжаты, и каждый звук летает в затихшем зале, точно в колокол бьет.
Дойдя до того места, что вот шло хорошо, царь остановился. Стало еще тише, не дохнет никто. Точно вот всем сейчас с крутой горы спускаться. Ждут, что-то будет за этой паузой. Прошла, может, секунда, другая, а поверите, мне показалось, что прошел час…
Вдруг выпрямился еще больше, брови сдвинулись…
«Теперь узнаю, что среди вас завелась… измена…»
Пролетело это слово, как гром среди ясного неба… И весь зал, все мундирное и расшитое дворянство повалилось сразу на колени… А над коленопреклоненной толпой неслись слова царской речи, возбужденные, гневные…
Кончил, повернулся и вышел…
И как только вышел, дворяне, как один человек, кинулись к Муравьеву, который под конец речи встал со своего стула, даже роль свою забыл. Кругом поднялся гул: «Ваше сиятельство. Верните государя! Уверьте его: здесь нет изменников… Мы все готовы… Ваше сиятельство… Дворянство вас умоляет…»
Но старик опять опустился, одряхлел и стал меньше ростом. Махнул рукой. Помолчал минутку, потом покачал этак прискорбно головой и говорит:
«Нет, господа. Не могу. Не решаюсь… Подумайте сами: как мне теперь явиться к государю на глаза? У меня… в губернии… измена! Господи боже!»
Опять поднялись крики и просьбы. Старик опять махнул рукой… Гляжу, в глазах искорки так и бегают, бегают…
«Ну, что делать… Для вас, господа, попробую».
Посмотрел в толпу, наметил несколько «своих» из меньшинства разгромленного комитета и говорит: «Прошу вас, господа, ко мне, надо посоветоваться. А вы, господа, погодите. Я сейчас…»
Через несколько минут возвращается, совсем убитый, еще более сгорбившийся, чем прежде, и говорит почти шепотом: «Нет… Не м-могу. Государь в страшном гневе… У себя… Может быть, отдыхает. Скоро депутации от горожан и крестьян. Теперь вам всего лучше на время уйти. Поезжайте в свое собрание, ждите там, а я, может быть, осмелюсь… Сделаю, что могу». Потом повернулся ко мне глазами и говорит: «А пока, чтоб не тревожить государя… молодой человек! Проводите, пожалуйста, господ дворянство по другой лестнице… Знаете?»
У меня по спине даже мурашки прошли… Ведь это, значит, мне придется проводить их черным ходом. Посмотрел я на старика умоляющим этаким взглядом: дескать, что вы со мной-то делаете?.. Но встретился с его глазами: вижу — ничего не поделаешь, — сталь. Повернулся я ни жив ни мертв: «Пожалуйте, господа».
И повел. Вы, господа, знаете этот ход? Дворец — постройка довольно старая: с лица — парад, широкая лестница, колонны, а с изнанки — теснота, темнота, вообще весьма непривлекательно. Иду впереди, дворяне, ошеломленные, еще ничего не соображающие, — за мной. Поверите: как стал спускаться с лестницы впереди этой толпы — ощущение такое, будто валится на меня обвал какой-то, лавина. Сейчас вот хлынет и задавит. И прямо за собой слышу — грузные шаги… Шереметев. Дошли до половины лестницы, смотрю — чья-то рука, большая, сильная, схватилась за перила… Дрожит, и перила дрожат. Оглянулся я: Шереметев стоит, покачивается. Вот-вот — кондрашка. И говорит сквозь стиснутые зубы: «Кат-торжник… Проклятый!..»
В этом месте своего рассказа Воронин, иллюстрировавший его очень выразительными жестами, остановился в волнении. Было ли это волнение от воспоминания действительно пережитой минуты, или это было волнение «творчества» — сказать трудно. Никогда больше я не слышал подтверждения этой драматической легенды, изображающей как бы апофеоз «демократического самодержавия». И нигде она не встречается в письменных мемуарах. Несомненно только, что Воронин в ту минуту верил в свои видения или воспоминания, и мы, его слушатели, верили тоже. Все было здесь законченно, цельно, согласованно. Вопрос о кульмском кресте, забвение освободительных увлечений из-за освободительных заслуг есть указание, что настоящая измена — в кознях против великого дела свободы…
В конце концов, более чем вероятно, что этого не было, по крайней мере в такой полноте… Что, загораясь воспоминаньями о героическом периоде своей жизни, Воронин черта за чертой создавал свою легенду и в конце концов завершил ее апофеозом самодержавия, твердой рукой, в сознании своей силы и власти, направлявшего дело освобождения через рифы сословных и иных препятствий… Хотя несомненно также, что в период великой реформы еще мелькали эти черты измечтанного славянофилами самодержавия… И что без них колесо истории повернулось бы иначе… К худшему или к лучшему, но — иначе…
То, что Воронин рассказывал дальше, опять, может быть, слегка прикрашено фантазией, но в главном совпадает с фактами, установленными местной историей. Комитет был восстановлен, либеральное меньшинство вновь приобрело значение в союзе с прогрессивной администрацией. Но в жизни продолжалась борьба упорная, страстная. Шереметев не сдавался. Надежды остановить ход надвигавшейся катастрофы не умирали. В народе росло нетерпение и глухие темные вспышки. Исправники и становые почти не жили в своих квартирах, то и дело вызываемые жалобами помещиков на непокорство и бунты. Нет сомнения, что если бы в то время существовало могучее орудие нынешних ретроградов — провокация, то вскоре на место освобождения с землей выступил бы лозунг: «Прежде успокоение»…
Но провокации не было, а народное нетерпение, глухое и темное, сдерживалось надеждой. Несмотря на жалобы помещиков, недвусмысленно обвинявших декабриста-губернатора в подстрекательстве, в Нижегородском крае народных вспышек и бунтов было меньше, чем где бы то ни было… Особенно жестоких помещиков начали удалять из имений…
Однажды, уже в 1858 году, Муравьев опять перед вечером позвал Воронина. У крыльца стояла наготове почтовая тройка. Губернатор ждал в своем кабинете и при входе Воронина запер дверь.
— Ну, молодой человек, послужите. Садитесь к столу. Вот подорожная. Впишите в нее свою фамилию… с будущим. Теперь возьмите вот этот приказ. Впишите фамилию: «Тайный советник Сергей Васильевич Шереметев».
Это был приказ губернскому секретарю Воронину отправиться немедленно в село Богородское и, предъявив тайному советнику Сергею Васильевичу Шереметеву, на основании ст<атьи> такой-то, распоряжение министра внутренних дел за номером таким-то, — предложить немедленно с ним же, Ворониным, прибыть в Нижний Новгород, где и проживать безвыездно.
Воронин дрожащей рукой вписал грозную фамилию и спросил:
— С кем прикажете мне отправиться?
— Одному.
— Ваше превосходительство… — взмолился бедняга.
— Ну что?
— Как же это… Кто он, а кто я?
— Он — тайный советник Шереметев, а вы — чиновник, исполняющий поручение.
В глазах его засверкал огонек, и он прибавил:
— Вы поедете один, чтобы не огорчать его превосходительство излишней оглаской. Не бойтесь, молодой человек, не бойтесь… Я вам говорю: поедет! Ну, а…
И глаза Мураша загорелись…
— Поезжайте с богом. Надо служить, молодой человек. Я на вас надеюсь.
По правилам, следовало сообщить жандармской власти и требовать содействия. Но так как были примеры, что жандармский полковник затягивал свой отъезд, а под рукой предупреждал приятелей-помещиков, то Мураш приказал своему чиновнику выехать немедленно, не дожидаясь «содействия». Извещение жандарму было послано уже перед утром.
— Никогда я не забуду этой ночи, — говорил Воронин.
— Струсили? — спросил один из слушателей.
— Подите вы! Как тут не струсить… Правду сказать: проклинал Мураша. Ему что. Игра у него крупная, и козыри в руках… А мне каково! Вот, думал, в клуб сходить, в картишки переметнуться, потом в постель. А тут — не угодно ли? Ночь, темнота, колокольчик. И как подумаю, что придется одному, с мужиком-старостой явиться перед грозным взглядом магната… Бр-р… пропал ты, думаю себе, Василий Михайлов, ни за грош. Где тебе, губернскому секретаришке, этакий дуб голыми руками вырвать… Ну а все-таки не ослушаешься. Не доезжая до села, велел колокольцы подвязать, потом разбудил старосту, подъезжая к барскому дому. «Кто такой? Что нужно?» — «По указу Его Императорского Величества!» Сначала не смели и подумать будить барина, но я настоял. Самому, положим, страшновато, но за спиной чувствую Мураша. Подняли. Семья уже поднялась, дворня… точно муравейник, растревоженный среди ночи… Вышел мрачный, осмотрел меня с ног до головы. Жутко, но все-таки взгляд выдержал, подаю бумаги. Взял он, распечатал пакет и опять, как тогда, на лестнице, схватился рукой за стол. Закрыл глаза, лицо то краснеет, то бледнеет. И опять слышу: «Кат-торжник проклятый…» Так прошло с минуту… Я стараюсь храбриться, вспоминаю про Мураша, а чувствую: точно надо мной скала повисла. Вот-вот обрушится. Вдруг Шереметев раскрыл глаза, точно от сна очнулся… «Едем!» И сразу опустился, как Мураш перед царской речью. Мешок мешком! Собираться даже не стал, сам торопит. Снарядили его домашние наскоро, одели… Вышли мы, сели в тарантас. «Гони!» Взвилась наша тройка!.. Еду я обратно, шевельнуться не смею: сам себе не верю, что это рядом со мной сидит сам Шереметев. А на душе все-таки гордое чувство… Завтра по всему Нижнему грянет, как гром. И кто это исполнил? Воронин! Перед самым городом, совсем рассвело, — глядим: мчится сломя голову жандармский полковник. Запоздал бедняга. До сих пор еще перед глазами стоят его выпученные глаза и испуганная физиономия, когда мы с громом и звоном пронеслись мимо…