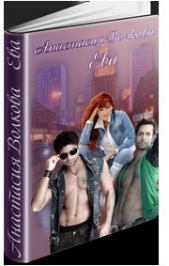Анфиса Гордеевна

Анфиса Гордеевна читать книгу онлайн
Просьба, не путать с младшим братом Владимиром Ивановичем, соратником Станиславского и одним из основателей Московского Художественного театра.
Василий Иванович многие годы путешествовал. В годы русско-турецкой, русско-японской и 1-й мировой войн работал военным корреспондентом. Награжден Георгиевским крестом за личное участие в боях под Плевной. Эмигрировал в 1921 году. Умер в Чехословакии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Анфиса Гордеевна, вы? — нагнал я её. — А я к вам.
— Ну, что же?… Милости просим, мы рады. Шура и то про вас спрашивала, что это господин в цилиндре не идёт?
— Экий у вас зонт!
— Нарочно купила такой, чтобы корзина у меня не вымокла.
— Дайте, я помогу вам.
— Что вы, что вы!.. Образованные которые, и вдруг с корзиной. Никак этого нельзя. Вы не думайте, я привыкла. И не такие таскала ещё.
— Как вы не устаёте?
— А так. Устаёт-то кто? Тот, за кого другие есть. Тому можно, — ну, он и балуется. Ну, а кому нельзя, тот не устанет. Это ещё что, а вот зима придёт настоящая, ну, тогда точно. Придётся тяжёлые платья таскать. И всё-таки, ничего, присядешь, отдохнёшь, и опять… Вы на лошадей посмотрите. Какая барская в теле, завсегда скорее разгонных устанет. Потому она тоже к нежности привыкла.
— Вам ещё и дома-то возни сколько…
— Ну, дома что!.. Там у меня Шура и Гуля.
— А с жильцами вашими?
— Вот с жильцами точно иной раз устанешь.
— Что, они вам хоть квартиру окупают?
— Да… да… — заторопилась Анфиса, но тотчас же сама устыдилась, Божья душа, своей невинной лжи. — Да, то есть, знаете… Они у меня жильцы-то ненастоящие, а как бы в сродственниках.
— Ничего не понимаю!
— Простое дело. У меня как папенька помер, так стала я меблированные комнаты держать… Пять годов держала, как же! Хлопотное дело, господин, а толку никакого. Ещё студенты хоть не сразу, да заплатят. Иной на службу, окончивший, уедет и оттуда через год присылает, потому у него совесть, а большею частью такие ко мне жильцы попадались, что проживёт-проживёт несколько месяцев, заикнёшься ему о деньгах, а он тебя же облает да и переедет к другим. Ищи его там! А эти трое, которые теперь у меня, невступно все пять лет выжили, как будто свои стали. Ну, я переехала и их с собой взяла.
— И тогда они вам не платили? — засмеялся я.
Анфиса Гордеевна вдруг обиделась.
— А с каких таких тыщей платить-то им?
— Вы и кормите их?
— Неужели ж им с голоду помирать?
— Да где же у вас доходы?
— Ну, знаете, главное, думать не надо. Дума не поможет. А уж это так ведётся. Если есть у тебя нужда, особливо если не своя, так и дело найдётся. На роскоши да разносолы не получишь, а на то, чтобы пропитать человека, всегда хватит. Слава Богу, платят мне за работу хорошо, вот ни на столечко долгу не сделала, всё налицо покупаю. Теперь вы то возьмите — капитан у меня. Из бесстрашных капитанов он. У него солдатский Георгий и другие кавалерии, а пансиону ему грош. Году не дослужил. Что же, его так бросить? На войне смерть не тронула, а я на улицу его, что ли? Никак этого нельзя! Я так и думаю: пусть он у меня свой век доживёт. Потому он не как прочие жильцы благородно мне открылся. Я тогда ещё только комнаты свои устроила. Ну, он пришёл. «Так и так, — говорит, — мадам, у меня в настоящее время никаких средств, а в будущем, когда моя тётка помрёт, я вас озолочу».
— И тётка не умерла?
— Что вы, что вы!..
— Да, может быть, её и нет?
— И я так иногда думаю, — засмеялась Анфиса Гордеевна. — Ну, да что же, пускай его. Это он из гордости, потому что офицер и дворянин. Нельзя же так прямо милостыню просить. Ну, он и выдумал её, тётку. И теперь, когда рассердится, кричит: «Вот погоди, умрёт тётка, я непременно от тебя съеду!»
— Он что-то часто кричит у вас.
— А отчего ему не кричать? Привык командовать. Ему это нужно, кровь полирует. Не покричит день-два, сейчас кровь-от ему в ноги бросается либо в голову. Опять и для души хорошо. Покричит-покричит и как будто настоящий господин, человеком себя чувствует. Смиряться-то да покорствовать — тоже, ах, как сердцу больно! У его и крику-то на пятиалтынный. Он кричит, а Гуля ему у-у-у да мм… Ну, друг друга и понимают. Зато в номере втором у меня совсем без гласу. Сидит в кресле и только глазами ворочает. Тоже из старых жильцов. Паралик его разбил, ужли ж и этого на все четыре стороны? Вынести да в грязь? А как Бог-от да меня так же полыхнёт, тогда что? Хорошо будет? А я так думаю: «Я-то им служу, а Бог меня бережёт, оно кругом и выходит». Теперича в третьем номере у меня генеральша… Какая дама!.. Папенька-то у неё, знаете ли, могущественный начальник был. Мой-то до «вашего превосходительства», может, на эстолько не дослужился, а и то, бывало, идёт к нему — мундир надевает, а сам про царя Давида и всю кротость его про себя шепчет.
— Она должна большую пенсию получать.
— Нет, из-за своего женского сердца всего лишилась. Как у неё папенька умер, так она сейчас замуж за офицера… Пожили два года, а потом он уехал от неё, так и неизвестно, где он теперь в бегах пропадает. Она думает, что у турецкого султана он, потому из татар. И христианство-то он ради неё принял. Лестно ему было на генеральской дочке. Всё как будто себя облагородил… Вон наш огонёк-то!
Впереди в темноте тускло мерещилось окно. Остальных не было видно за забором. Должно быть, и собаки её почуяли, затявкали, мелко-мелко, точно бисером просыпались.
XV
Меня особенно поражала в Анфисе Гордеевне черта, которую после я всегда находил в таких же как она людях. Их не так мало, как кажется на первый взгляд, они вовсе не очень редки. Во всевозможных разновидностях на самых непохожих одно на другое поприщах, но они встречаются далеко не одиночками. С ними невольно начинаешь верить, что стоит только по-настоящему, как следует, возлюбить други своя, в каком бы крошечном размере это ни было, да не на словах, а деятельно, и от тебя тотчас же отойдёт прочь страх жизни, страх завтрашнего дня, который омрачает и губит тысячи и миллионы других, более, по-видимому, счастливых существований. Анфиса Гордеевна не только не пугалась этого океана бытия, уходившего перед нею в туман и тьму, но радовалась ему и, улыбаясь, ждала будущего. Не потому ли, что для бурных волн в её душе вечно светили яркие маяки любви и добра? Ведь, уже кому бы трепетать, как не этой старухе с расхлёстанным пижоном и в аксельбантах, и не за себя, но и за всех приютившихся у неё, а она нисколько не интересовалась этим. «А Бог-то? — убеждённо говорила она тем самозваным печальникам, которые пытались смутить кроткий мир её души. — А Бог-то?» — и она живо чувствовала этого Бога около себя и во всём, что ни случилось с нею, видела Его направляющую руку. После каждого свидания с нею моя душа как-то ободрялась и вырастала так, что ежедневные заботы и печали делались маленькими-маленькими и вовсе исчезали. Эта смешная женщина, смешная по видимости, воплощала в себе столько силы и даже красоты, — красоты нравственной, сердечной, — что достаточно было коснуться её локтем, чтобы хоть чуточку очиститься от всякие скверны и ощутить в себе некоторый стыд. Она не только не боялась жизни, не боялась «утрия», но, по-евангельски, нисколько не думала о первой и не заботилась о втором. Всё это — и жизнь, и утрия шли своим путём, она предоставляла устройство их Промыслу, а сама только и знала, что, не складывая рук, работала ради бесприютных и жалких людей, окружавших её. Тормошилась, изводила себя, не требуя от них даже уважения к себе. Напротив, её радовали и капризы «генеральши», и крикливая команда «капитана», потому что и та, и другой, таким образом, убеждали других и сами убеждались, что они не утратили ни человеческого достоинства, ни самолюбия. Под влиянием её живого примера, и все её помощницы — горбунья Шура и немая Гуля — служили тому же делу, не помышляя о себе. «Нам что, — говорили они, — нам, когда понадобится, Господь пошлёт, это уж не наше дело, не наша забота!» Я думаю, ни в одном монастыре не исполнялись так свято и, в то же время, так наивно, простодушно, бессознательно великие заветы христианской любви. В своём крошечном уголке эта невидная артель являлась прообразом того, как бы следовало жить целому миру, не мудрствуя лукаво, не ища никаких одобрений и ободрений со стороны, просто, без вычур, без громких слов, даже без знания того, что она делает. Иначе она жить не могла и не умела; при других условиях она бы почувствовала себя неловко, если не несчастной, то так же, пожалуй, как мы чувствуем себя в тесных сапогах, которые не дают нам ни ходить, ни двигаться и ни на одну минуту не перестают нестерпимо жать ногу. Самого дела её никто не замечал из-за смешной наружности Анфисы до того, что я, несколько лет прожив в этом городе, не мог ознакомиться с ним. Нужен был случай, чтобы рассмотреть затерявшийся во мхах и кустах крошечный светловодный ручей, так щедро напоивший кругом жаждущую землю.