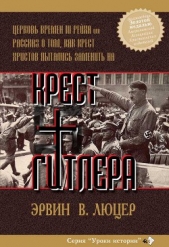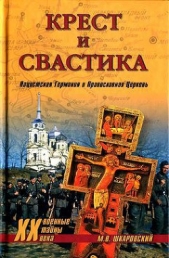Неразлучники

Неразлучники читать книгу онлайн
«…У обоих слепцов слух и осязание были тонко развиты, но у мальчика они были развиты лучше. Самый легкий, чуть слышный, скрадывающийся шорох не ускользал от его внимания, самый обыкновенный шум и стук пугали его, заставляли вздрагивать. Легкое веяние воздуха он чувствовал на своем лице так же хорошо, так же явственно, как мы чувствуем дуновение ветра…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Держись, батя! Я иду! — крикнул Вася.
— Иди, иди, голубчик! Не бойся! — промолвил старик, изо всей мочи упираясь ногами в доску.
Старик не чувствовал, что он своими словами посылает юношу на смерть. А между тем Вася был так близко от него, старик мог бы еще схватить его за рукав рубахи и спасти… Вася шел по доске босиком, шагов его было почти не слышно, — раздавался только какой-то неясный шорох. Старик думал, что Вася еще только прилаживается ступить на доску, и ждал. А Вася той порой подходил к концу доски, а вместе с тем и к концу своей жизни.
Он сделал последний шаг…
— Вася! Ты что же… — начинает старик.
В тот же миг с легким шумом доска моментально перевернулась — и несчастный юноша вместе с нею стремглав полетел вниз с двадцатисаженной высоты…
XIV
Старик слышит глухой шум, слышит, как Вася задыхающимся, не своим голосом вскрикивает: «Батя!», слышит, как что-то мягкое валится вниз, стукается по пути о колокольные обрезы и, наконец, грузно падает наземь. И потом — все тихо, страшно тихо… Только слышно, где-то близко воркуют голуби: вероятно, на крыше колокольни, да жаворонок поет далеко над полями. Старик выпрямляется и, тяжело дыша, прислушивается с минуту. Сердце его замирает, колени трясутся, а взгляд мутных, широко раскрытых, ничего не видящих глаз его как-то бессмысленно, беспомощно погружается в пространство.
— Вася! А Вася! — дрогнувшим голосом шепчет старик, изо всей мочи напрягая свой тонкий, изощренный слух.
Но ответа нет, по-прежнему все тихо…
Старик пошатнулся. Холодный пот выступает на его лбу, а все лицо его вдруг покрывается мертвенною бледностью. Он ничего не видит, — ужасное, невыносимое положение! Он не понимает, что такое случилось, но уже чувствует, что на колокольне произошло что-то недоброе, совершилось что-то страшное…
Он машинально наклоняется, ощупывает доску, ощупывает ее всю, до конца — Васи нет, вокруг него пусто… Старик застонал.
«Сорвался!» — мелькает у него в голове.
Но он никак не может понять, каким образом Вася, идя по доске с костылем, идя по ней уже не в первый раз, при всей своей осторожности, мог сорваться… Произошло что-то необъяснимое. Вася еще не вступал на доску. Старик готов побожиться, что он еще не чувствовал, чтобы Вася шел по доске. И вдруг он исчез… Но куда же он мог деваться? Упал?
В полубеспамятстве, тяжело дыша и весь вздрагивая, старик спустился с лестницы и, не найдя дома ни сторожа, ни его старухи, охая пустился бродить около колокольни. Старик не помнил, как он спустился с лестницы и долго ли бродил около стен колокольни, он только помнит, что нога его вдруг наткнулась на что-то мягкое. Он опустился на колени, шарит рукой, ощупывает… Да. Это — Вася… Это — он! Старик потрогал его голову, лицо, грудь… В груди что-то еще дрожало, билось… И горько-горько зарыдал бедняк, склонившись над телом своего несчастного товарища, своего неизменного друга. Какая-то теплая липкая жидкость приставала к рукам старика. Это — кровь, его кровь…
Под ярким утренним солнышком, под голубыми сияющими небесами, лежал Вася, не дыша, неподвижно, как подрезанный колосок. Все тело его было размозжено. Его бледное, помертвевшее лицо и шея были покрыты кровью. Жизнь уже отлетела из этого разбитого, изувеченного тела… но лицо Васи и в смерти было так же спокойно и прекрасно, как и при жизни.
Чтобы понять все горе старика, нужно было видеть, с каким отчаянием ползал он около холодевшего трупа дорогого ему человека, какими горькими слезами обливал он шелковистые белокурые волосы, теперь запятнанные кровью, как целовал он его в бледный лоб, в закрытые глаза, в уста и в щеки… нужно было послушать, с какими трогательными словами обращался он к бездыханному, бесчувственному телу, и с какой болью срывались с его запекшихся губ эти слова, полные ласки и беззаветной любви…
— Дитятко мое милое! Красное ты мое солнышко! — тяжко всхлипывал он своим старческим, надрывающимся голосом. — Радость моя! Голубчик! Сердечненький мой… И не пожил, не порадовался… Охо-хо!
Одна только мысль и была в его голове — мысль о том, что он навсегда потерял Васю. Только одно чувство — чувство одиночества, чувство невыразимой скорби терзало его сердце, словно разрывало его на клочки.
Услыхали его стоны, сбежались люди, подняли слепого и унесли в сторожку.
Старик, как убитый, сидел на лавке, свесив голову на грудь и опустив руки, как плети. Только порой он покачивал головою и с горечью шептал про себя:
— Ой, дитятко, дитятко мое милое!
Невозможно было без слез смотреть на него. Еще горше становилось, когда старик с лихорадочным оживлением принимался заботиться о том, чтобы получше нарядили покойника. И Васю нарядили в его праздничную розовую рубаху, чистыми холщовыми онучами обвили ему ноги и обмотали их веревочкой, новые лапти надели. Старик, надрываясь от печали, сам примочил ключевою водою волосы покойника, сам старательно расчесал их своим роговым гребнем. Расчесав их, он не выдержал — приник своею седою головою к голове покойника, прильнул губами к его мягким, шелковистым волосам — и зарыдал тяжко, безутешно. Словами не высказать горя…
На третий день Васю похоронили… Старик вдруг притих, ни на что не жалуется, не плачет, сидит да молчит, только, казалось, еще пуще сгорбился; потемнело его страдальческое лицо. По целым часам, молча, просиживал он на могиле своего друга «Васеньки», и только тихо вздыхал. По ночам сторожиха слышала, как он бредил — звал Васю или переживал еще раз во сне страшную сцену на колокольне и успокаивающим тоном повторял: «Иди, иди, голубчик! Не бойся!» Не раз ночью он просыпался и окликал своего товарища: «Вася, ты спишь? Вася! А, Вася! Ты где?» А потом, придя в себя, вспомнив о своем одиночестве, он опять валился на свое жесткое ложе и тихо-тихо плакал.
Однажды он сказал сторожу:
— Смотри, Иван… Когда я помру, положи меня вместе с Васей — в одну могилку. На земле мы были «неразлучники» — и в земле разлучать нас непочто!
— Ладно, ладно, дедушка! — говорил Иван. — Сделаем в твое довольство…
Через восемь дней после смерти Васи не стало и старика. Он умер тихо, неслышно, словно заснул.
Сторожиха утром пришла к нему в каморку и нашла его на лавке. Старик сидел перед столом, положив на стол руки и на руки опустив голову.
«Вот у места спать улегся»… — заметила про себя сторожиха.
Она хотела разбудить его и уложить на постель — подошла, взяла его за плечо, а плечо уже холодно… И в ту же минуту, как сторожиха пошевелила его, его голова скатилась с рук и тяжело стукнулась о стол…
Исполнили последнюю волю старого слепого.
Разрыли еще свежую могилу Васи и на его гроб поставили гроб старика. Высокий бугор насыпан над ними. Иван сам смастерил большой деревянный крест — белый, сосновый, блестящий и без всякой надписи водрузил его на могиле. Хороший крест — лет десять простоит он! А надпись… Зачем она? Разве кто-нибудь станет отыскивать могилу наших братанов!
Каморка в церковной сторожке на время опустела, а затем опять поселились в ней какие-то убогие.
Прошли года. Общая братская могила уже опустилась, заросла травой. Весной жаворонок поет над нею. В каждый праздник над погостом в свежем утреннем воздухе по-прежнему звонят и гудят колокола, наполняя звуками своих медных гортаней ближние и дальние окрестности. Зычными своими голосами торжественно поют колокола и над могилой братьев-слепцов, так любивших при жизни их звон и гул…