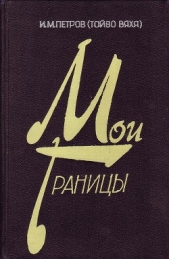Воспоминания
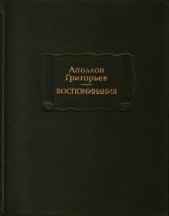
Воспоминания читать книгу онлайн
Ап. Григорьев хорошо известен любителю русской литературы как поэт и как критик, но почти совершенно не знаком в качестве прозаика.
Между тем он — автор самобытных воспоминаний, страстных исповедных дневников и писем, романтических рассказов, художественных очерков.
Собранное вместе, его прозаическое наследие создает представление о талантливом художнике, включившем в свой метод и стиль достижения великих предшественников и современников на поприще литературы, но всегда остававшемся оригинальным, ни на кого не похожим.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Севский вскочил и ходил по комнате. Наконец он встал перед матерью, и во взгляде его блеснула отчаянная твердость.
Его мать еще больше завизжала и упала на диван.
Человек холодный заткнул бы себе уши… Севский был молод, Севский был благороден; в его высокой природе чувство сострадания ко всему себя низшему доходило до слабости.
Он ударил себя по лбу и, схвативши руку матери, поцеловал ее.
Она плакала и продолжала тише, но так же злобно:
— Вот они до чего доводят тебя, твои приятели… и не до того еще доведут, вспомнишь ты тогда материны слова: материны слезы сильны перед богом.
— Маменька, маменька! — умоляющим скорбным голосом говорил Севский.
— Что — маменька? — сказала она, отирая слезы, сухим тоном. — Я говорю правду, я уж давно страдалица, и все за тебя. Одного уж отучила от дому, а то было повадился каждый день шасть да шасть: словно с виселицы сорвался, картежник этакой, а тоже выдает себя за барина, в коляске ездит… Я про твоего приятеля толкую, — сказала она язвительно, — про Званинцева.
Дмитрий дрожал нервически.
— Какой же он мне приятель, маменька? — говорил он тем же покорным тоном.
— Что ж? небось этот лучше, что ли? небось лучше! тоже с цепи сорвался. Да уж за одно благодарна, правду говорит, у меня не изволь шататься к этому, как бишь его, где картежники-то собираются?.. Изволь-ка нынче к дяде… там порядочные люди, твой начальник отделения. А то куда хорошо, — мать больна лежит, а сынок сидит с мерзавцами да с развратной девчонкой шильничает *.
Дмитрий вспыхнул… но без действия, осталась эта вспышка в его истерзанной пытками организации. Он не имел силы вскипеть гневом мужа даже за то, что он любил больше жизни.
— Я пойду к дядюшке, маменька, — отвечал он с нежною покорностию раба и изменившимся от страдания голосом; все, что у других вырывалось наружу, в этой природе падало вовнутрь и грызло и жгло мучительно.
— То-то пойду… — продолжала мать, — а у меня смотри, ведь я поглядеть пошлю, точно ли ты у дяди.
И она вышла, захлопнувши с гневом дверь.
Севский опять упал на диван, изнеможенный, больной, и с ним начались припадки женской истерики.
Ему необходимо было быть у Мензбира. Но как?
Наконец он вспомнил, что жена его дяди любит его, что она несколько раз вызывала его на откровенность.
Он был горд для откровенности.
Но он был влюблен.
И впервые, может быть, человеческое достоинство и гордость принесены им в жертву.
— Но… лгать, лгать, боже мой! — продолжал он вставая, — но вечно лгать.
— И сметь еще любить? — прибавил он с негодованием на себя. Но он запечатал письмо и спросил одеваться.
А ведь точно любовь — хула в душе раба!
По очень большой, но неприятно голой желтой зале одного дома на Песках * расхаживал маленькими, скорыми шагами старик лет 60, небольшого росту, седой, с быстрыми, беспрестанно бегавшими глазами… Старик был по-домашнему, в шелковом халате, сшитом сюртуком. Он беспрестанно поправлял свечи, расставленные по всем маленьким столикам залы и обливавшие ее желтизну особенным, отвратительным светом. Старик то раскладывал мелки на четырех приготовленных столах для карт, то заглядывал своими маленькими беглыми глазами в полуотворенные двери передней, то поправлял пюпитр для скрипки, поставленный подле прекрасного виртовского рояля. Какое-то лихорадочное беспокойство просвечивалось в его непреодолимой заботливости.
— Анна, Анна! — закричал он в двери, которые вели в другую комнату.
На крик его явилась малорослая Женщина лет 30, настоящий, неподдельный тип чухонки * или ведки *, ибо, как все чухонки, она обижалась своим чухонским происхождением. Что-то гнусно-наглое было в ее лице, довольно, впрочем, красивом.
— Анна, — повторил старик, — что же не выдет Лидка? пора, уж десять часов.
— А мой пошем знайт? твой Лида, а не мой, — грубо сказала чухонка, захлопнув дверь ему под нос.
Старик с досадою топнул ногой.
— Пора мне с ней разделаться, проклятою, — проворчал он сквозь зубы, — да и надоела уж, право.
Он опять начал ходить из угла в угол, поглядывая по временам в окно.
— Лида, — вскричал он, — Лида, а Лида?
— Что вы, папенька? — послышался серебряный голос.
— Пора, матушка, скоро наедут. —
— Сейчас, дайте мне застегнуть спензер *.
И через минуту дверь другой комнаты отворилась, и оттуда выпорхнула девочка лет пятнадцати, маленькая, как кукла, вся — выточенная, как кукла, но выточенная великим художником.
Она была мала — мала до той уродливости, которая есть высшая красота и малейший шаг за которую дальше будет безобразием. Ее мягкие светло-каштановые волосы, тонкие и длинные, падали довольно небрежно на щеки, нежные до болезненности; глаза ее, темно-голубые до того, что их с первого взгляда не различили бы вы с черными, облиты были преждевременной, опередившей года сладострастной влагою, и она опускала их так стыдливо-лукаво, так боязливо-смело… Бюст ее был совершенно античный; все тело ее, молодое и упругое, способно было гнуться и извиваться по-змеиному, и когда она села, небрежная поза ее дышала невыразимо обаятельным сладострастием; правая нога, выставившаяся из-под платья, была мала и вместе высока в подъеме, и это одно, что перешло в ней восточного от ее матери, гречанки по происхождению. Одета она была прекрасно, но фантастически-театрально: белое платье, короче обыкновенных модных, черный бархатный спензер, венок на голове и прекрасные, почти до плеча голые руки! Это была, казалось, театральная гитана *.
— Папенька, — начала она, смотря на отца очень выразительно, — ваш барон мне надоел… Долго ли он еще будет к нам ездить?
Старик не отвечал.
— Я вас спрашиваю, — повторила она со смехом, — долго ли будет ездить барон?
— Ты глупа, — с сердцем сказал старик.
— Я вам говорю, что он мне надоел, — вскричала она с нетерпеливою досадою ребенка… — Он настоящая сова.
— Да вот так для тебя и прогоню я его сейчас, — проворчал старик.
— Он мне говорит любезности!
— Ну так что ж?
— Знаете ли, что он мне сказал вчера?
— Ну!.. — и старик, заложив руки за спину, вопросительно глядел на дочь.
— Угадайте… — сказала она с веселым хохотом.
— Да ну же.
— Он уговаривал меня бежать с ним. С ним!
И девочка хохотала.
Старик заходил по комнате быстрее прежнего.
— Ну что ж? — сказал он с величайшим спокойствием, остановясь опять перед нею. — Он богат… играет скупо — так не скуп будет на другое. Не мытьем, так катаньем!
— Фуй! — сказала девочка и, сделавши презрительную мину, порхнула к роялю и запела чистым, хотя немного детским голосом какой-то романс.
— Ой ты! — сказал отец, — все вздор в голове. Ведь я разведал про Севского-то: ничего нет за душою.
— Он хорошенький, — сказала Лидия, прерывая романс и закинув назад головку.
Двери передней отворились. Вошли уже известные читателю Сапогов и его спутник, которого звал он Антошею. Антоша, впрочем, был во фраке, довольно чистом, хотя, кажется, сшитом не по нем. Лица Сапогова и Антоши раскраснелись от чего-то и черты последнего дышали отвратительным беспутством.
Лидия окинула их взглядом и, слегка кивнувши головою, продолжала играть.
— А, почтеннейший Андрей Сидорович! — засуетился старик, — наконец-то вы, — и он исподлобья взглянул на его спутника.
— А я к вам не один, Сергей Карлыч… Рекомендую, мой закадычный — Антон Петрович.
— А по фамилии, смею спросить? — сказал старик, протягивая спутнику руку и прищуря левый глаз.