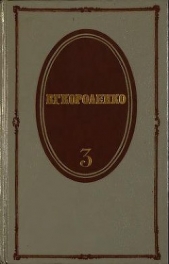Том 9. Публицистика

Том 9. Публицистика читать книгу онлайн
Девятый том составляют публицистические статьи и очерки: «Павловские очерки», «В голодный год», «Дом № 13», «Бытовое явление», «Случайные заметки», а также статьи, посвященные «Мултанскому жертвоприношению», «Сорочинской трагедии», «делу Бейлиса» и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В «волости» я справился, сколько они получили пособия. Оказалось… за всю зиму тридцать пять фунтов! У мадаевского старшины была своя особенная система: он выдавал тем, кто у него лично просил, и каждый раз особо. Старики, когда захворали оба, — перестали просить… «Умерли натуральною смертью», — показал мне писарь отметку в книге…
Я и до сих пор вижу эту маленькую келью, с странными, как будто загадочно глядевшими на меня окнами… Что она видела в своих стенах, вся занесенная снегами, и сколько таких «натуральных смертей» отмечено еще в Мадаевской волости, управляемой железной рукой «образцового» старшины [74].
Как бы то ни было, все-таки физиономия уезда с весной изменилась. Человек так устроен, что ему всего важнее — надежда. А надежда была. Она явилась и в виде усиленной помощи от людей, и в виде оживающей природы… И чувство народа нашло себе исход в этих двух облегчающих надеждах. В моей практике пралевские кошмары, действительно, уже не повторялись.
Как-то пришлось мне этой весной составлять список в огромном мордовском селе, Пикшени. На открытом воздухе собралась огромная толпа, вернее, две толпы, потому что в селе два общества. Молодой священник с некоторым опасением предупреждал меня, что сход будет беспокойный и бурный. Зимой он пробовал составлять списки беднейших и должен был прекратить: столько поднялось споров и зависти. Вдобавок у мордвы, по его мнению, — гораздо меньше чувства собственного достоинства и стыда, поэтому он ждал, что на мой призыв колыхнется сразу весь мир… Все это заставляло ожидать нового пралевского кошмара…
Но опасения эти рассеялись после первого же приступа к работе. Вид у мордвы был спокойный, речи разумные, ровные.
— Ежели так ссуду станут выдавать, как теперь… — начал решительно один.
— Да теперь будет все так, — сказал я на этот раз с убеждением, — сбавлять не станут.
— Так промаемся сами! Не пиши меня, не надо…
— И меня не пиши, — сказал следующий. — При этом способии можем кормиться как-нибудь.
— Спасибо, теперь прибавили, — сказал третий. — Мимо меня иди, не надо!
Зато если попадались имена действительно нуждавшихся, то указания были замечательно единодушны.
— Батькина Авдотья, — читает священник по списку.
— Авдотья Петрович это… Старука. Его пиши.
— Слепой девка.
— Авдотья Петрович кормить надо.
И «Авдотья Петрович» вносится в список.
— Точно не эти люди! — с удивлением говорил мне священник, когда мы шли со схода, в какие-нибудь два-три часа покончив со списками в обоих обществах… — Или уж вас это они стыдятся? — прибавил он в раздумья…
Но я помнил, что в Пралевке меня не стыдились, и я понял, что именно изменило физиономию этой толпы. Это были: хлеб и надежда…
«Как, однако, просто, — думалось мне в этот день, — водворяется „спокойствие в уезде“… Это простое средство удобно еще тем, что при нем нет надобности разыскивать „возмутителей“ даже в среде сельского духовенства!.. А еще важнее, что оно устраняет кошмары, и при нем бледнеют всякие, порой самые превратные толки, „яко же восток от лица огня“»…
Через несколько дней после только что описанного схода я въезжал в большое и тоже мордовское село Пермеево. Было уже жарко, озими зеленели на солнце, хутора, деревеньки и села мелькали кругом, точно нарисованные яркими красками на плане…
Пермеево — прелестное, небольшое, впрочем, село, — было почти пусто. Мужики ушли пахать яровые поля, которым, увы! и в этом году суждено было обмануть ожидания пахарей, и только на огромных, еще безлистых ветлах посередине улицы суетились и кричали целые тучи грачей, восстановлявших прошлогодние гнезда…
Я остановился в избе старосты, довольно зажиточной и сплошь оклеенной картинками (где, сказать кстати, между генералами я увидел портреты Щедрина и Островского). Хозяйку этой избы, красивую и приятную женщину, с умным лицом, порядочным русским выговором и необычайно большим животом, обличавшим ее положение, я застал в очень нервном состоянии.
— Ты из Болдина, что ли, ехал? — спросила она меня.
— Да, из Болдина.
— Не встречал ли на дороге двоих: большого мужика с мальчишкой?..
— Встречал. А что?..
— Да что! Сумлеваюсь я через этого мужика, очень сумлеваюсь!..
Она смотрит на меня, потом подходит к столу, вынимает оттуда надкушенный ломоть хлеба и, держа его в руке, смотрит в окно, как будто в этом окне должен кто-то появиться.
— Вот видишь, какое это дело. Подошел он, этот самый, к окну и просит клеба. Я подаю, думаю Христовым именем. Нет, бает, ты мне за деньги давай. «Мало, говорю, клеба-те у нас, за деньги еще давать…» Ну, а все-таки он дал пятачок, а я ему клеб подаю. Взял он, скусил, опять подает мне в окно. «Неловко нам, говорит, — разрежь». Взяла я нож отрезать. А он, слышишь ты, от окна и пошел. Я ему кричать: «Погоди! Возьми хоть пятак назад». Не слушает: так и пошел, так и пошел, да и ушел вовсе из села! Что такое это, право, какое дело вышло необычайное! Вот и клеб этот самый… Если мало ему, сказал бы, ежели клеб не показался, деньги бы взял назад. А то на — оставил все. Больно сумлеваюсь, больно сумлеваюсь. Что за человек это может быть… Дива, право, дива…
— Отдай нищему и перестань сумлеваться…
— Отдам и деньги, и клеб отдам, нельзя оставить никак!.. А сумлеваться буду… потому что дива это…
И я видел, что необычайный поступок неведомого странника глубоко волнует эту добрую женщину и будет еще долго волновать все село или, по крайней мере, бабью половину. И, пожалуй, какая-нибудь легенда встанет из этого простого случая, и разнесут ее на хвостах грачи и галки, которые так суетятся над огромным деревом-патриархом, и какое-нибудь «превратное толкование» уже готово в путь по белому свету…
На закате солнца добродушный и очень сообщительный мордвин вез меня по проселочным дорогам в другие деревни, для той же работы. Он очень весело и откровенно рассказывал мне анекдоты о кочубеевских бабах, о своем священнике и о многом другом и при этом прибавлял то и дело:
— Сам видал. Сам не видал — не говорил, сам видал — говорить можно.
Наконец, его подвижное внимание остановилось на моей особе. И тотчас же пошли вопросы: чей будешь?чем занимаешься, чиновник или нет и т. д. Я отвечал, что я из Нижнего, занимаюсь своим делом и не чиновник.
— А сколько получаешь жалованья за то, что теперь к нам приехал?
— Жалованья не получаю.
Мордвин повернулся, посмотрел на меня, подумал, хлестнул заленившегося мерина и затем как-то многозначительно молчал всю дорогу. Он как будто что-то вдруг вспомнил или пришел к какому-то заключению…
Дня через три или четыре я составлял списки в Казаковке, куда пришел из Слободы пешком, в виде прогулки, в прелестное ясное утро. Правда, что мое появление было несколько внезапно, так как ни звон колокольцов, ни тарахтение колес не предупредили деревню о моем прибытии. Тем не менее, вскоре собрались старики. Я заметил, что в избе господствует напряженное молчание, среди которого как-то странно прорывались по временам вздохи старушонок.
— О гос-с-с-под-ди-и… бат-тюш-ка-а…
Я уже знал, в чем дело, и мне было очень приятно видеть, что тяжелые воздыхания этих старушенций, показавшие мне, что здесь меня уже ждали и много толковали заранее о моем будущем приходе, что все это не мешало мужикам очень толково и дельно давать мне необходимые сведения. Список был составлен быстро, так же быстро найдено помещение, и я тронулся далее, причем на этот раз мне любезно подали лошадь из ближайшей сыроварни, арендатор которой, швейцарец г. Гузиер, согласился заведывать столовыми.
Я нарочно подчеркиваю слово швейцарец, и опять мне было очень приятно, что это именно так случилось и что заведывать столовой будет «немец».
Мой возница — работник из сыроварни, толковый мужик с умным лицом и обдуманной речью, видимо чем-то интересовался, поглядывал на меня и собирался о чем-то спросить.