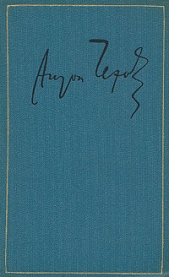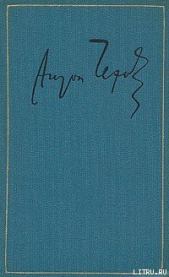Том 3. Очерки и рассказы 1888-1895

Том 3. Очерки и рассказы 1888-1895 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки и рассказы 1888–1895 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Акулина была таким, миром погребенным существом. И не одна, а со всеми своими пятью детьми.
Все мысли ее расползлись из головы, все нити своих соображений растеряла она, и теперь, как в каком-то тумане, в какой-то бесконечной пустыне сидела и ничего не могла сообразить.
На дворе давно уже была ночь, давно все бабы, унимавшие ее, разбрелись, ветер завывал в трубе, хлопал отвязавшейся ставней и, наконец, вывел Акулину из забытья.
«Ставню-то припереть», — подумала она тоскливо и заглянула в окно. Заглянула и обмерла: чья-то длинная тень у ворот. Лошадь?!
Акулина порывисто, как была, шарахнулась во двор. В приотворенных воротах стоял действительно Бурко и пытался пробраться во двор.
Не веря своим глазам, Акулина отставила подпорку, и Бурко поспешно, с каким-то точно озабоченным видом, ворвался во двор и начал быстро тереться головой об ее плечо, то низко, низко наклоняя голову, то быстро опять подымая ее. Это было, очевидно, выражение удовольствия, радости свидания, об этом говорила какая-то торопливая нервность движений Бурка, его слегка всхрапывающие ноздри.
— Бурко… Бурко… — шептала машинально ошеломленная Акулина. — Бурко, кормилец… Вернулся… вспомнил… не оставил?! Ба-а-тюшка ж ты мой!!!
Измученная Акулина, зарыдав, повалилась к ногам своего верного друга Бурко.
Возвратившийся Бурко вернул Акулине сразу всю бодрость и энергию духа: она решила больше не расставаться с ним. Она видела во всем этом явное указание перста божьего. Но хотя и перст божий и добрая воля самого Бурка для нее и были вполне достаточным и убедительным доводом, но тем не менее Акулина ясно понимала, что и то и другое надо было как-нибудь оформить, так, чтобы и люди признали ее права.
Как на самом подходящем, Акулина остановилась на дяде Василье. По этаким делам он знал хорошо, да и язык умел держать за зубами, да к тому же и не чужой — свой, родной. Родня — родней, а деньги — деньгами, и три рубля понадобились на дело.
Наутро явился хозяин Бурка, но Бурка — след пропал. Никто не видал, конечно, Бурка, и поэтому предварительный опрос не дал ничего утешительного.
Для очистки совести крестьянин все-таки заглянул и к Акулине, заглянул с ней под навес и, конечно, ничего не нашел. Везде лежал ровный снег, которого за ночь нанесло довольно.
— Незадачная покупь, — огорченно сказал, выходя, крестьянин, — знал бы, уж лучше тебе бы подарил его… пра-а… все одно, волки съедят… Эх…
— Спасибо, батюшка, и на добром слове, — глубоко вздохнула Акулина, — божья воля на все… чего станешь делать?
— Ну до свиданья!
— Счастливый путь, батюшка!
— Може, и найдется еще…
— На все воля божья, батюшка.
Акулина стала быстро сбираться в дорогу: она со всеми своими ребятишками, кроме младшего двухлетнего, надумала отправиться на кормленье в сытую сторону. Младшего сдала на зиму Драчене за три пуда муки. На селе и ахали и радовались: шесть лишних ртов со счета, но зато что ждет ее-то, несчастную? Акулина не робела теперь. Она была опять бодра и весела.
«Ну, и баба», — хвалили на селе Акулину.
Обула ребятишек тепло и хорошо. С вечера обошла всех и простилась:
— До свету выйду… дядя Василий проводит.
— Ох, Акулинушка, потрудись для детушек — велика тебе награда будет от господа бога, — говорила Драчена, — а об своем-то малыше не заботься, — что об себе, то и об нем.
Жарко поплакали обе, помолились и распрощались.
Сбилось в кучу и спит село. Нахохлились избы, и снегом занесло пустую улицу. Темные, как черная сталь, тучи ползут в небо. Точно где-то высоко, высоко гул какой-то стоит, но еще тихо внизу. Только лес голый сожмется вдруг и вздрогнет будто от холода, а в лесу под деревьями видно далеко. Хрустит под ногами тропинка: идет сам-пять Акулина: — гуськом так и тянутся с торбами, — меньше да меньше — последний Петрушка четырехлетний, в ширину и высоту одинаковый — пыхтит, поспевая.
— Мамка, ты что убежала?
— Цыц ты?! — возбужденно шепчет Акулина.
— Дядя?! — тихо кличет она, и Никитка со страхом каким-то вскидывает на нее свою, обмотанную ее платком, голову. Слабо откликнулся Василий и выехал из лесу.
Что за диво! стоят дети: Бурко не Бурко?
Если не Бурко, то зачем он так похож, если Бурко — почему он такой смешной — и стриженый, и без хвоста, и с выщипанной по волоску большой, как ладонь, лысиной на лбу?
Но напрасно дети ждут ответа.
Бурко таинственно задумчивый, но спокойный, молчит.
Акулина на все вопросы детей только твердит:
— Божий Бурко… айдате, айдате; не рано…
— Божий?
Божий так божий — умостился в сани и ждет Петька.
— Квитанец взяла? — пытает Василий. Квитанец — новый паспорт на Бурка.
— Взяла, дядя…
— Этак и там же: хвост коровы сжевали… лысина на лбу… гляди… Ну, с богом… счастливый путь;.;
— Спасибо тебе…
— Не на чем… с богом.
— Куда?! — только теперь спохватился, испуганно поняв, что было, четырехлетний, весь в мать, великан.
— К добрым людям, к добрым людям… в гости… гостинца дадут… Но-о! Господи, пресвятая богородица, благослови, — угрюмо озабоченно тронула Акулина.
— Этак прямо, все прямо… а тут вправо: бо-о-оль-шая дорога… там уж одна, — замирает голос дяди Василия в лесу.
Замирает и сердце Акулины.
Гуще валит снег.
Из-за лесу неприветливо глянула потемневшая в белом саване степь.
Там далеко, далеко за черным покровом в той стороне хлеб уродило…
Что-то могучее завыло вверху, как в трубе, и подвернуло книзу. Завертелся снег хлопьями и сверху и снизу в каком-то непрерывном движении; кажется, что всё те же хлопья кружат колесом пред глазами. Шире и шире растет колесо и словно растирает все встречное в снег: кажется, и лес, и даль, и небо само, и весь мир, и все провалилось и растерлось в эти пустые, легкие, без толку снующие перед глазами хлопья. Где-то тоскливо завыл зимний хозяин степи. Точно искры сверкнули глаза и скрылись в непроглядной метели. Заносит слабый след проселочной дороги. Скорее бы добраться до тракта.
Так и Лепит глаза: отвернулась взад Акулина и смотрит, вся надежда теперь на Бурка, чтоб не сбился.
Озабочен и он: прядет ушами и словно думает какую-то одному ему известную думу. Тихо, мерно, осторожно ступает и тянет всей грудью тяжелый товар. Тяжелый и ценный, — самый ценный на земле и на небе: полные сани Христовых детей!
III
Дикий человек
Что-то железное во всей коренастой фигуре Асимова. Дикая воля в татарских или монгольских с прорезами кверху глазах. Дик, нелюдим. Как будто кругом каким очертил себя: что в кругу, то его, — за кругом нет его ничего и хоть трава не расти. А с виду тихий, ровно и ласковый, — идет по селу — поклон отдает раздумчиво. Или возится когда у себя на пчельнике тут же за огородом. Придет Гурилев, бывало, под вечер, тоже старинный пчеляк, и пойдет у них разговор о роях, да о поносках, о матках вострохвостых, да теплых летних ночах, после которых так берут хорошо пчелки: недельку таких теплых дней — и полный улей меду.
Кругом, как в саду. Там вдали солнце садится и золотит пруд и мельницу. Ульи меж вербами, и птички на вербах поют звонко в тишине да приволье; пчелки на покой тяжело летят: подлетит, покружится и тяжело, тяжело ползет в улей.
Глядит Асимов: ветерок гладит волосы, шапки нет; так без шапки сидит — задумался.
Поглядеть: бери его голыми руками.
Нет, жесткий, тяжелый, скупой человек.
С Гурилевым с детства дружбу водит — прикончил и дружбу всю, как пришел просить денег. Разругались — теперь и не глядят при встрече друг на друга. Асимов увидит только — подумает: «Много вас охотников на чужие деньги».
Теперь с дружбой к нему не подъедешь.
Все помнят лет тринадцать тому назад, как голодный год пришел. Клади у него не молоченные по три, по четыре года стоят — другая вся уж сгнила, мыши съели, народ пухнет от голода, мрет-фунта не дал. Окечь бы его, идола, так ведь и себя сожжешь. Да уж чужие бы так — своих-то хуже чужих гонит. Все равно ему, что. пес последний, что чужой, что кровь родная. На что жену и ту на тло извел… ушла к богу от аспида. Двух сыновей ему жена бросила. Без бабы, конечно, нельзя по хозяйству: так какая-то тень человека без слов, сирота без роду — приживалкой мелькает в углах избенки; старая, мягкая, как тесто, с желтым лицом, а по нем все морщинки, в них и нос пуговка — торчит кверху, глаза крошечные без цвету, — так, скотина домашняя, приученная к делу.