Том 12. В среде умеренности и аккуратности
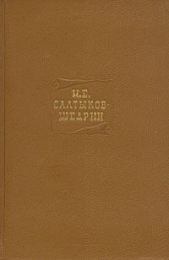
Том 12. В среде умеренности и аккуратности читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но благодарить ли за это?
На днях я этот самый вопрос предложил приятелю моему Глумову.
— Любезный друг! — сказал я ему, — ввиду прекрасных намерений, которыми проникнуты были дворянские мелодии, осуждать нас за них было бы, конечно, несправедливо; но, воля твоя, и благодарить не за что. Благодарность предполагает услугу, в какой бы форме, материальной или духовной, она ни была оказана, но непременно услугу. Какую же услугу может представлять собой благородная смутность чувств, сопровождаемая сладкозвучным словесным журчанием, вся прелесть которого в том именно и заключается, что оно — журчание, не поддающееся даже законам сжимаемости? Ведь мы до того изжурчались, что вот теперь, когда со всех сторон зарождаются всякие запросы, то мы не только не можем установить связи между этими запросами и нашим прошлым, но даже едва ли в состоянии формулировать точное определение существа современных явлений!
Глумов, по обыкновению, сочувственно отнесся к моему заявлению (тем более что оно уже само по себе представляло не что иное, как продолжение тех же дворянских мелодий), но, прежде нежели ответить на мой вопрос, он как-то уныло, почти безнадежно взглянул на меня.
— Хворы мы, брат, — вот что! — наконец произнес он.
— Да и не теперь только хворы, а всегда были! — подхватил я с жаром. — Ведь, коли по совести-то говорить, помянуть нечем прошлого… Эти экскурсии в область униженных и оскорбленных — ах, я забыть об них не могу!
— А это еще лучшее, что было!
— Но ведь это разврат! это сонное любострастие — вот это что! Как вспомнишь теперь, что по временам я лишал себя настоящего обеда, питался колбасой да вареной ветчиной… ты думаешь, для чего? А для того, любезный друг, чтоб на сбереженные от обеда деньги в таких же клетчатых штанах щегольнуть, какие наш общий товарищ Сеня Бирюков * носил! Ах, даже кровь в голову бросится! Ведь я сгорал завистью к тем, которые к графине де Мильфлёр на балы ездили! Я, отроду ее не видавши, анекдоты из жизни Мильфлёрши рассказывал! Я стихи Лермонтова: «Как мальчик кудрявый, резва» *, на всех перекрестках, с пеною у рта, декламировал!
— И в то же время отдавал часы досуга сочувствию униженным и оскорбленным… было, брат, это! было!
— Разве это — не сонное любострастие? Ах, что это за молодость была! Ведь ни одного последовательного шага, ни одного связного поступка не было — ничего, кроме нервной искренности, то есть искреннего лганья! Не лжи, а именно лганья, безобразного, нескладного, которое всякий насквозь видит! И странное дело! Все ведь знали и понимали, что мы лжем, лжем и лжем, и никто не дал себе труда уличить нас, никто не сказал: молодые лгуны! подумайте, какую вы себе готовите старость!
— Тогда, любезный друг, все лгали, а об молодых людях так даже прямо такое мнение было, что им лгать приличествует. И дамочки тогдашние такое направление имели, что только перед лганьем и полагали оружие. Ручательство страстности и пылкость в лганье видели.
— И вот теперь мы старики — и никому до нас дела нет. Даже самим себе… да, и самим себе мы опостылели и, словно прокаженные, жмемся и разнемогаемся по своим углам!
Это было так горько, так горько, что я совсем незаметно увлекся и уже совершенно непоследовательно заключил свою диатрибу восклицанием:
— За что!
— А вот за то за самое, в чем ты сейчас сам себя уличал! за лганье! Чудак, братец, ты! Целый час сам себе нотацию читаешь, и вдруг — за что!
— Да, но ведь все-таки… Не все же умерло… например, хоть бы во мне! ведь хоть и поздно, а я очнулся-таки! Весь этот угар, все эти странные понятия о свойствах, составляющих украшение благородного молодого человека, — все это уж давно похерено и сдано в архив! Ведь я теперь…
На этом слове я осекся и покраснел.
— Что же «теперь»? — спросил меня Глумов угрюмо.
— Зла я не делаю! зла!
— Христос с тобой! на что делать зло?
— Да, но ведь и это… Нельзя же не принять в расчет… Потому что, в противном случае, при чем же мы состоим? И что же, наконец, нам делать?!
— Жить — вот и все. Если жизнь привязалась и не отпускает тебя — ну и живи. Удивляй мир отсутствием поступков и опрятностью чувств. Не пиши преднамеренных романов с переодеваниями, но и от гимнов воздержись, потому что в самые гимны твои, помимо твоей воли, непременно проникнет водевильная струя. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи в своих четырех стенах, благо ты уж обжился в них, и в чужие существования не впутывайся. Наблюдай эти существования и, буде чего не поймешь в них, то не огрызайся, но и не славословь, а говори прямо: я этого не понимаю! Живи!
В сущности, в виду такого решения вопроса, не жить, а просто умереть нужно. Но мы живем. Я думаю, что нас спасает в этом случае та общая смутность представлений, которая необыкновенно облегчает самые внезапные переходы от одного тезиса к другому, совершенно противоположному. Противоречия останавливают нас только в таком случае, когда они уже чересчур явно заходят в область представлений, прямо оскорбляющих нашу опрятность; но мы охотно примиряемся со всякими скачками и перерывами, как скоро стоящая на очереди мысль (хотя бы и мало сходная с мыслью, стоявшею на очереди за минуту перед тем) настраивает нас на тон великодушия, негодования и других праздничных чувств. Так, например, кончить вчерашний день самобичеванием, а завтрашний день начать с самооправдания, близкого к самохвальству, не представляет для нас никакой трудности. Ибо и самобичевание, и самооправдание равно допускают участие великодушия, негодования и проч. и одинаково представляют лишь результат нервной возбужденности, настолько эмансипировавшейся, что под ее давлением самый контроль разума обращается в ничто. Повторяю: только наличность конкретного дела или, по малой мере, ясное об нем представление могли бы оградить нас от нервной распущенности и сопровождающих ее противоречий, но именно этих-то отрезвляющих условий мы и были всегда лишены.
Согласившись со мной накануне, что наша деятельность (если не рискованно употребить в настоящем случае это выражение) всегда страдала двоегласием и неясностью, и что, посему, благодарить за нее нет никакого основания, Глумов очень недолго остался при своем показании и на другой день уже развивал передо мною мысль, что благодарить — следует.
— Нас следует благодарить уж за то одно, — говорил он, — что одним из главных результатов нашего существования был стыд. Почему современное хищническое ликование до того оскорбляет, например, хоть тебя, что тебе сдается, будто ты вращаешься среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости? — потому что ты смолоду воспитал в себе стыд! Почему сознание твоего бессилия в виду этой атмосферы не побуждает тебя покоряться ей, но загоняет в тесное пространство четырех стен и наполняет твое сердце горечью? — опять-таки потому, что в тебе есть стыд! Не будь стыда, ты нюхал бы миазмы современности и говорил бы, что пахнет розами. Не будь стыда, ты даже бессилием своим воспользовался бы только для того, чтоб подписать удовольствие приговору современности. Ты сказал бы себе: я до того затерян в безыменной толпе, что всякая возможность заявить о своей личности, об ее симпатиях и антипатиях, для меня бесповоротно утрачена, а потому буду жить смирно и в мире с самим собой и окружающей средой, довольствоваться званием скотины, которое одно для меня доступно. И так как скотина ни о каких заявлениях помышлять не должна…
— Послушай, однако! — остановил я Глумова, — да сам-то ты воистину ли убежден, что в наших «заявлениях» чувствуется надобность? *
— Все-таки, друг мой. Положим, что и не бог весть какие заявления мы с тобой сделать можем, но и за всем тем потребность в их формулировании не только не претенциозна, но и вполне естественна. Ты находишь, что наши заявления ничего существенного дать не могут — прекрасно! но тем стыднее, что даже это несущественное находится под замко̀м. Вот мы и стыдимся! Стыдимся не за себя, а за то поистине неистовое положение, в которое мы фаталистически поставлены.

























