Том 12. В среде умеренности и аккуратности
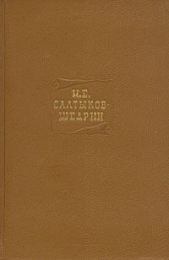
Том 12. В среде умеренности и аккуратности читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В ту минуту, как я дописываю эти строки, бьет два часа, и я слышу приближение парохода. Пыхтит, шумит, свистит… На Дунай! [114]
Подхалимов 1-й.
От редакции газеты «Краса Демидрона». Предчувствия не обманули нас: Одиссея господ Подхалимовых кончилась, и, кажется, весьма для них неблагополучно. Сегодня мы получили от г. чебоксарского уездного исправника официальную бумагу, из которой видно, что в Чебоксарах пойманы двое беспаспортных бродяг, по фамилии Подхалимовы, которые называют себя корреспондентами «Красы Демидрона». Разумеется, мы поспешили сообщить все, что нам известно об этих господах, но при этом, конечно, не упустили определить с точностью наши отношения к ним, дабы отстранить от себя всякую прикосновенность к этой неприятной истории.
Вообще нам не посчастливилось с корреспондентами. Г. Ящерицын, посланный на малоазиатский театр войны, вместо г. Подхалимова 2-го, тоже изменил нам: из полученного сегодня письма его видно, что он принял место квартального надзирателя в Сызрани и уже вступил в отправление своих обязанностей. Новая, чувствительная потеря для нас, ибо и г. Ящерицына мы снабдили и подъемными, и поверстными, и кормовыми деньгами. Будем надеяться, однако, что он возвратит нам забранное, тем более что место квартального надзирателя в Сызрани, знаменитой своей обширной хлебной торговлей, — весьма и весьма небезвыгодное.
За всем тем мы продолжаем не щадить ни трудов, ни издержек для удовлетворения наших подписчиков. На днях мы опять приусловили двоих талантливых молодых людей: г. Миловзорова и г. Прелестникова, и уже отправили первого за Дунай, а второго — в Малую Азию. Оба они из архиерейских певчих, обладают прекрасными голосами (следовательно, могут, при случае, обучать болгар и прочих единокровных партесному церковному пению *) и чрезвычайно солидного характера. Мы не станем уверять, что они совсем не пьют, но, кажется, не ошибемся, ежели скажем, что они пьют — в меру. Рюмка, две рюмки, три рюмки — не больше.
IV. Дворянские мелодии *
Я — человек отживающий. Расстояние, которое мне остается пройти, так невелико, что мысль об итоге невольно закрадывается в голову. И вот, по размышлении, оказывается, что итог этот может быть формулирован в следующих немногих словах: ни зла, ни добра…
Не скрою, бывают минуты, когда такая краткословность моего кондуитного списка довольно-таки больно щекочет мою совесть. Есть в ней что-то обидное, отзывающееся какою-то мертвенною бесформенностью. Положим, это еще ничего, что я в сражениях не бывал, никого не изувечил и даже пороху не выдумал, но каким образом объяснить, что вообще никаких «поступков» за мною не числится? Вялость и хворость — вот и все. Именно хворость, потому что недугу, из которого в виде итога вырастает сознание: «ни зла, ни добра» — даже названия не подберешь. Острых болей нет, а постоянно как будто разнемогаешься.
Тем не менее, когда, движимый инстинктом самооправдания, я начинаю вглядываться пристальнее в то положение, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участие в этом деле далеко не существенно), то в конце концов прихожу к заключению, что есть, однако ж, почва, на которой я довольно прилично могу примириться с встревожившеюся совестью. Нет деятельного, торжествующего зла: право, и это не безделица! Конечно, это не бог знает какая «почва», а скорее соломинка, но, в качестве человека отживающего, человека иных песней и иных традиций, я хватаюсь за эту соломинку и возлагаю на нее великие надежды.
Мы переживаем время, которое несомненно представляет замечательно полное осуществление ликующего хищничества. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством и неразвитостью, выбросила на поверхность целую массу людей, которые до того упростили свои отношения к вещам и лицам, что, не стесняясь, возводят насилие на степень единственного жизненного регулятора. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровенного заявления «принципий» давно не бывало. Прежде, даже в среде самых отпетых людей, можно было изредка расслышать слова вроде: великодушие, совесть, долг; нынче эти слова окончательно вычеркнуты из лексиона торжествующих людей. Прежде люди, сделавши пакость, хотя и пользовались плодами ее, но молились богу, чтоб об ней не узнали; нынче — богу молиться вообще не принято, а краснеют по поводу затеянной пакости только тогда, когда она не удалась. Весьма возможно, что в этой темной оценке современности (то есть торжествующей ее части) очень значительную роль играет мое личное чувство — чувство отживающего человека; но, во всяком случае, я делаю ее искренно и затем предоставляю читателю самому распутывать, сколько из приведенной выше характеристики принадлежит брюзжанью усталого старика, и сколько — действительности.
Но если даже такое простое слово, как «совесть», оказывается слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как, например: любовь, самоотверженность и проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую в этом случае можно рассчитывать, это — хохот. Что-то отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то салопница, не то Дон-Кихот, выезжающий на битву с мельницами. И всем по этому поводу весело; все хохочут: и преднамеренные бездельники, и искренние глупцы.
Этот хохот наполняет сердце смутными предчувствиями. Сначала человек видит в нем не более как бессмысленное излияние возбужденных инстинктов веселонравия, но мало-помалу он начинает угадывать оттенки и тоны, предвещающие нечто более горькое и зловещее. Увы! подобные предчувствия редко обманывают. Хохот сам по себе заключает так много зачатков плотоядности, что тяготение его к проявлениям чистого зверства представляется уже чем-то неизбежным, фаталистическим. Одним простым хохотом Дон-Кихота не проймешь, да он и не удовлетворяет и самого хохочущего. Является потребность проявить себя чем-нибудь более деятельным, например: наплевать в лицо, повалить на землю, топтать ногами. Конечно, все эти действия могут быть производимы и самостоятельно, но несомненно, что чаще всего они представляют собой видоизменения хохота и, так сказать, естественное его развитие. Поэтому, ежели вам на долю выпало несчастие случайно или неслучайно возбудить хохот толпы, то бойтесь, ибо хохот не только не противоречит остервенению, но прямо вызывает его.
Как бы то ни было, но я могу об себе сказать смело, что проявления совести, самоотверженности и проч. никогда не возбуждали во мне позыва к хохоту. Напротив того, я относился к ним скорее благосклонно или, лучше сказать, опрятно… хотя и бессильно. Я понимаю, разумеется, что бессилие очень мало украшает человека; но поставьте все-таки мою страдательную опрятность рядом с теми деятельными формами и видоизменениями хохота, на которые я сейчас указал, и едва ли не придется согласиться, что в известной обстановке самое воздержание может претендовать на название заслуги. Притом же хохот не только жесток, но и подозрителен или, лучше сказать, придирчив. Преследуя непосредственно Дон-Кихота, он придирается и к стороннему человеку: а ты что рот разинул? Он не терпит никакой неясности, и ежели до поры до времени позволяет воздержанию прозябать в темном углу, куда загнал его испуг, — то именно только до поры до времени и притом в виде беспримерного снисхождения. Наступит момент, когда он прямо потребует, чтоб вся наличная армия, и старые и малые, и сильные и хилые, были в строю, чтоб все нижние чины до единого смотрели не кисло, а бодро, весело и решительно. Это будет минута тяжкая и решительная. Человек недоумения, человек, жизненный девиз которого исчерпывался словами: ни зла, ни добра, вдруг очутится если не прямо в положении кознодействующего Дон-Кихота, то, во всяком случае, в положении его попустителя. Покончивши с Дон-Кихотом, и бессильного человека выведут пред лицо хохочущей толпы, прочитают его вины («смотрел кисло», «улыбался слабо» (а все-таки улыбался), не «наяривал, не «накладывал») и в заключение скажут: «Ты даже опаснее, чем Дон-Кихот, ибо настоящий Дон-Кихот, по крайней мере, всенародно гарцует, а ты забился в угол и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующего яда…» Ведь хохоту-то по этому случаю, пожалуй, еще больше будет! Помилуйте! дурак ничего не делал, хотел спрятаться, а его на свежую воду вывели!

























