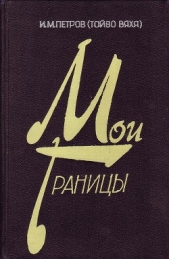Воспоминания
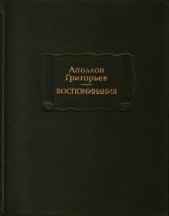
Воспоминания читать книгу онлайн
Ап. Григорьев хорошо известен любителю русской литературы как поэт и как критик, но почти совершенно не знаком в качестве прозаика.
Между тем он — автор самобытных воспоминаний, страстных исповедных дневников и писем, романтических рассказов, художественных очерков.
Собранное вместе, его прозаическое наследие создает представление о талантливом художнике, включившем в свой метод и стиль достижения великих предшественников и современников на поприще литературы, но всегда остававшемся оригинальным, ни на кого не похожим.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Очень буду обязан, — перервал муж.
Ужасное положение, когда нельзя, когда неприлично отделаться от посещения человека, которого видеть у себя неприятно.
— Хотя, право, — продолжал тихо Званинцев, — я не знаю, когда я успею к вам заехать.
Молодая женщина подняла на него взгляд глубокой, стесненной грусти.
— Я сам у тебя буду, — сказал Воловский, вероятно, проклиная внутренно визиты и контрвизиты. — Где ты живешь?
— На Большой Мещанской *, в доме под № 14, — отвечал Званинцев.
Дилижанс остановился еще на одном мосту.
— Кажется, нам пора выйти, Marie? — обратился Воловский к жене. Та медленно встала.
Званинцев пожал руку мужу и потом протянул руку жене.
Нерешительно и робко подала она ему свои бледные пальцы, и всякий третий мог бы видеть, как они дрожали в его руке.
Он крепко пожал их, эти бледные пальцы, и, устремив на нее долгий почти испытующий взгляд, сказал громко и резко:
— Я к вам буду.
К кому относились эти слова? Бог знает.
Но в ответ на них она послала ему взгляд, полный болезненного упрека, и, опираясь на руку мужа, вышла из дилижанса.
Званинцев долго смотрел ей вслед, сжимая череп своей палки. Потом, как бы опомнившись, обратился к своему соседу, с вечно неизменною сжатою улыбкою.
— Давно вы были у Мензбира?
— В последний раз мы были с вами вместе, — отвечал тот, скрывая досаду.
— Лидия заметно подрастает, — продолжал равнодушно Званинцев.
— Кажется, — сухо сказал Севский.
— Вы, вероятно, давно это заметили? — спросил Званинцев, не заботясь скрыть насмешливость своего вопроса.
— Почему же я, а не вы? — грубо возразил молодой человек.
— Мне некогда, вы это знаете, я всегда играю.
— И, кажется, счастливо, — перервал Севский, сделавши особенное ударение на слове «кажется».
— Да, в последний раз я выиграл пять тысяч у этого барона… как бишь его? — совсем забыл его имя… — ну вот у того, который всегда привозит что-нибудь Лидии.
Севский вспыхнул.
— Очень весело иметь хорошенькую дочку, — продолжал равнодушно. Званинцев, — этот Мензбир, право, пресчастливый человек. Как вы думаете?.. Да, скажите, пожалуйста, кто была ее мать, гречанка, что ли? Вам это должно быть известно.
Севский не отвечал. Дилижанс остановился на Невском.
— Пойдемте вместе, — сказал Званинцев Севскому, выходя из дилижанса, — нам по дороге.
— Нет, — сухо отвечал тот, — я еще зайду к одному знакомому.
— Так поздно?.. Что же скажет ваша маменька? — спросил Званинцев с явным сарказмом.
Но Севский был уже в десяти шагах от него.
Званинцев грустно улыбнулся вслед ему и повернул на Мещанскую.
Говорят, в Петербурге очень весело зимою — может быть! Я не решаю этого вопроса, потому что вообще плохой судья в веселье; но что, я знаю слишком хорошо, так это то, что летом в Петербурге необычайно скучно, особенно тому, кого не благословил рок службою в какой-нибудь канцелярии… Театров нет; ездить на дачи не стоит хлопот, потому что там точно так же играют в преферанс; в кондитерских народу мало, и только в одной из них каждый вечер толкуют об Англии и Франции *, о Невском проспекте и т. п.
Там есть всегда бессменные члены, и, когда вы ни придете, вы всегда найдете там седого человека с очень умной и насмешливой физиономией, — и моего приятеля *** с мефистофелевскою улыбкою на тонких губах, с болезненно-искаженными чертами, с сгорбленною и усталой походкой, с цинизмом в каждой мысли, в каждом слове, в каждом движении, с вечно злыми и страшными остротами, с вечными аневризмами сердца и боязнью за драгоценную для человечества жизнь, — и другого моего приятеля ***, которого благородная физиономия больше и больше покрывается густым слоем флегматизма, и низенького толстого человека с лицом птицы — великого мастера круглого биллиарда, спокойно поощряющего сподвижников искусства.
Но утром и в этой кондитерской очень мало народу. Один мой приятель циник сидит иногда в угловых креслах и читает новую «Presse» да но временам бросает ее с досадою, говоря будто бы про себя: «Скверно на свете жить!».
Раз — это было в светлое, довольно раннее летнее утро — в кондитерскую вошел или, точнее, вбежал уже знакомый моим читателям Севский. Он быстро подошел к прилавку и спросил какой-то конфеты-карикатуры, которой налицо не оказалось и за которой надобно было послать в другую кондитерскую.
— Warten sie nur einen Augenblick! [125] — сказал ему прислужник.
— Jawohl! [126] — отвечал Севский и, положив соломенную фуражку, стал ходить по первой комнате; потом, сбросивши свое легкое пальто, отворил дверь в другую и вошел в нее.
Спиною к нему сидел человек в черном бархатном сюртуке, по очертанию гладко остриженной головы которого ему нетрудно было узнать Званинцева.
— Вечно? — сказал Севский почти вслух и хотел уже затворить дверь; но Званинцев, услыхавши шум за собою, оборотился к нему с живостию и засмеялся.
— Да, вечно, вечно, мой молодой друг, — сказал он, протягивая ему через стул руку. — Вечно, везде, где бы вы ни были, вы меня встретите; таков рок.
Озадаченный этой насмешливостию, но смущенный сильно тем, что он дал вырваться из себя слову, которое, по всем расчетам, должно было остаться на дне души, молодой человек машинально пожал протянутую ему маленькую и белую руку и тотчас же почувствовал всегда неприятную ему манеру Званинцева пожимать указательным пальцем чужой пульс *.
— Да, таков рок, — повторил Званинцев, не выпуская его руки и продолжая щекотать его пульс указательным пальцем, впрочем, вовсе уже не насмешливо, а скорее важно и холодно. — Послушайте, — сказал он, вперивши в молодого человека неподвижный, сильный, магнетический, взгляд, — вы очень меня ненавидите? А? признайтесь по совести, — ведь очень? — не правда ли?
И, говоря эти слова, он положил его руку на ладонь своей левой руки и, гладя правою нежную и мягкую руку Севского, глядел ему в глаза с каким-то скорбным странно-умоляющим и вместе обаятельным выражением. Молодой человек молчал, опустивши глаза в землю; на его щеках пробился огнем румянец стыда.
— Ну, да… оно и понятно, — продолжал Званинцев, — вам велели меня ненавидеть? — И он холодно засмеялся.
Севский вспыхнул и с негодованием выдернул из рук Званинцева свою руку.
— Я вас развращаю, не правда ли? — говорил Званинцев, пристально смотря ему в лицо с насмешкою. — Ваша маменька…
Он остановился, ожидая, какое действие произведет это слово: он вонзился взглядом в свою жертву, как тигр, готовый к вечной обороне.
Натура Севского была не из тех слабых натур, которые покоряются ласковому слову: он ненавидел всякое наставничество, хотя бы в самых тонких, обаятельных формах.
Он отступил… он побледнел внезапно, как бывает со всяким человеком слишком нервного сложения.
Огненный взгляд Званинцева не упускал из виду ни одного его движения.
— Иван Александрович, — сказал наконец молодой человек, сжавши физиономию, но дрожащим от гнева голосом, — кто дал вам право говорить мне дерзости? Что вам от меня нужно?
Званинцев быстро прислонился спиною к стулу и смотрел на него, как смотрит художник на прекрасное произведение искусства.
— Ничего, — сказал он потом медленно, отвечая на вопрос, — я вас люблю.
— Я не хочу вашей любви, — почти вскричал молодой человек, судорожно сжавши спинку стоявшего возле стула.
— Да мне-то что до этого? — продолжал Званинцев, полушутливо, полугрустно, — я вас люблю, вот и все тут, я — картежный игрок, я — ужас вашей матушки, я вас люблю, я в вас люблю самого себя, свою молодость.