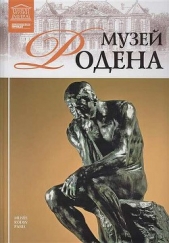Герои расстрельных лет

Герои расстрельных лет читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
... открывателях новых земель... Для кого не страшны ураганы, Кто изведал мальстремы и мель.
Чья не пылью затерянных хартий, Солью моря пропитана грудь, Кто иглой на разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь... Стоило чтецу замолчать, перевести дух, и тут же высокие голоса подхватывали упоенно:
... Пусть безумствует море л хлещет, Гребни волн поднялись в небеса, Ни один пред грозой не трепещет, Ни один не свернет паруса. Разве трусам даны эти руки, Этот острый, уверенный взгляд, Что умеет на вражьи фелуки Неожиданно бросить фрегат.
Меткой пулей, острогой железной Настигать исполинских китов. И приметить в ночи многозвездной Охранительный свет маяков?25 Бог мой, какие мысленные клятвы, какие надежды вкладывали молодые люди в романтические строки! Прямо с поезда я побежал к морю окунуться и услышал взволнованное, порывистое, как признание:
Да, я знаю, я вам не пара, Я пришел из другой страны, И мне нравится не гитара, А дикарский напев зурны.
Не по залам и по салонам, Темным платьям и пиджакам Я читаю стихи драконам, Водопадам и облакам... И тут читавший заметил меня, неведомого ему, во флотском кителе, и оборвал чтение; кто-то вскочил, чтобы нырнуть во тьму; но послышался басовитый голос: "Это свой! С филологического..." И читавший вздохнув полной грудью, прокричал ночной тьме:
И умру я не на постели, При нотариусе и враче, А в какой-нибудь дикой щели, Утонувшей в густом плюще... Тут заплакала какая-то девушка, навзрыд, ее пытались успокоить, увели; позднее я вспоминал и эту ночь у воды, и эту исступленность жертв, читая фантастическую книгу Рея Бредбери "451 градус по Фаренгейту". В этом фантастическом произведении государство уничтожало культуру. Точнее, культура была уже уничтожена. Давно. А если обнаруживали книгу, немедля выезжали по тревоге пожарные - с керосином в цистернах - и сжигали остатки запрещенной культуры. Специальный летающий аппарат настигал и, ужалив, убивал всякое инакомыслие, даже самое невинное. Вместе с инакомыслящими, разумеется... И вот отдельные интеллигенты заучивали наизусть классику. И, уйдя подальше от городов, бродили по полям и берегам рек, твердя любимые строки, чтобы не забыть и передать своим детям... Море шуршало по прибрежной гальке, фосфоресцировало, лунные блики колыхались, дрожали; оно было прекрасным, это ночное море, объявленное по вечерам запретным. Стихи, читавшиеся дрожавшими от волнения голосами, тоже были прекрасными, и тоже - запретными. Враждебными. Всегда. И до десяти вечера, и после. И вот эта сырая ночь, эти романтически-исступленные, как клятва, запретные стихи у запретного моря всегда вспоминались мне затем главой из придуманного Реем Бредбери страшного, адского мира; может быть, впервые в ту сырую черноморскую ночь я задал себе вопрос: "Где мы живем? В какую эпоху?" А мог бы и не спрашивать... В университете прошли массовые аресты. Были упрятаны в тюрьмы не только несколько преподавателей, но и немало студентов. В том числе и из нашей группы. Ребята гуляли по Москве со студентами-албанцами, и один из моих товарищей по группе Сережа Матвеев сказал, кивнув в сторону Кремля: "Вы думаете, там идиллия? Там тоже свои счеты-расчеты..." Албанцы пришли в ужас и... сообщили о реплике Сережи секретарю парткома университета, и наши однокурсники стали пропадать один за другим. Прежде всего - самые талантливые: Костя Богатырев, Геня Файбусович... Оказалось, МГБ выдумало целый студенческий заговор и, конечно же, террористический. ...Мы долго молчали, подавленные. Затем один из нас снова начал декламировать, сперва вполголоса, потом все громче, декламировать так созвучное нашим мыслям и нашему настроению:
Он стоит пред раскаленным горном, Невысокий старый человек. Взгляд спокойный кажется покорным От миганья красноватых век.
Все товарищи его заснули, Только он один еще не спит: Все он занят отливаньем пули, Что меня с землею разлучит... Он замолчал, читавший паренек, и никто не подхватил, как обычно; предвиденье Гумилева было ужасающе реально: он написал, оказывается, это свое стихотворение "Рабочий" не только о собственной судьбе... Все удрученно молчали, и тогда паренек продолжил едва слышно:
Пуля, им отлитая, просвищет Над седою, вспененной Двиной, Пуля, им отлитая, отыщет Грудь мою, она пришла за мной.
Упаду, смертельно затоскую, Прошлое увижу наяву, Кровь ключом захлещет на сухую Пыльную и мятую траву.
И Господь воздаст мне полной мерой За недолгий мой и горький век... Это сделал в блузе светло-серой Невысокий старый человек... Так совершенно естественно пришла, вслед за предвоенной романтикой Багрицкого и Михаила Светлова, мужественная и горькая романтика Гумилева... В самом деле, могла ли волновать нас теперь поэзия нашего детства: "Нас водила молодость В сабельный поход. Нас бросала молодость На Кронштадтский лед..."? Вместо этого в жизнь моих друзей вошла Марина Цветаева:
Все рядком лежат, Не развесть межой. Поглядеть: солдат! Где свой, где чужой?
Белым был - красным стал, Кровь обагрила. Красным был - белым стал, Смерть побелила... Позднее, на лекциях, мы передавали друг другу конспекты по философии, где величайшей крамолой зазвучал Спиноза: "Диктатура - это режим, в котором человек обязан думать и верить согласно предписаниям правителей; они говорят ему, что правда, что ложь, и наказывают его, если он думает иначе". (Трактат 20-35.) Я помню, как мне показали Спинозу, прикрыв рукой книгу и отчеркнув ногтем еретическое место. Несчастный Барух Спиноза! Вначале его изгнали раввины, теперь он стал еретиком в эпоху, уничтожавшую раввинов... Спиноза чередовался с запретным Волошиным и "непонятным" Пастернаком. Сновали, сновали под студенческими столами листочки - "безымянные" стихи. Самиздат, как говорят теперь. В те годы, когда и Солженицын, и Евгения Гинзбург, и Варлам Шаламов еще изнывали в каторжных лагерях, к нам пришли на помощь Гумилев и Цветаева, Волошин и Пастернак... Самиздат, зародившийся в страшные годы террора, сразу обрел высоту классики. И это определило его значение и непреходящее влияние...
"ЦВЕТЕТ В ТБИЛИСИ АЛЫЧА"
1. РЕАНИМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ. ВСПОЛОХИ 1953 ГОДА
Жизнь в России, особенно в последние годы сталинщины, была как бы жизнью в глубоком колодце. Народ опустили в колодец, и он существовал там в кромешной тьме, лишенный всякой информации, кроме отфильтрованной, или "идейно-напряженной", как говорят на Руси специалисты по оболваниванию. Помню ужас соседа, работавшего в каком-то учреждении, на нищенской зарплате. Он прибежал с расширенными от испуга глазами, бормоча: "Что стряслось?! Что будет?! Приказано портреты Берия снимать! Лаврентия Павловича! Самого!.." А улица, полупьяная по выходным, была равнодушна и цинична. Горланила и пьяными, и трезвыми голосами:
Цветет в Тбилиси алыча Не для Лаврентий Палыча. А для Климент Ефремыча И Вячеслав Михайлыча... Вячеслав Михайлович Скрябин, партийная кличка Молотов, еще был в силе. Частушки о его крушении загорланили через четыре года. С тем же цинизмом и по-олнейшим равнодушием... В страшном испуге находились лишь бывшие "проработчики", доносчики, заплечных дел мастера. Особенно суетилась "Литературная газета", трусливая, как все хулиганы. Только что, к примеру, она смешивала с грязью, затаптывала ленинградского писателя Юрия Германа. До того докричалась, что повесть Юрия Германа "Подполковник медицинской службы", о враче по фамилии Левин, опубликованная в журнале "Звезда" наполовину, была спешно изъята, а набор рассыпан...26 И вдруг в той же самой "Литературке" появился "трехколонник славы" - в честь крупнейшего писателя Юрия Германа. Его величали, как Шекспира в юбилейный год, конечно, даже не вспомнив о том, как затаптывали вчера. Василия Гроссмана, правда, еще не подымали: пока только Юрия Германа, Сталиным не меченного. Однако было совершенно ясно, что в безотказно действующем государственном механизме полетели какие-то шестерни. Владимир Ермилов, главный редактор "Литературки", травивший десятки писателей "от Маяковского до Твардовского", как говаривали в Союзе писателей, стал вдруг восславлять Твардовского и ругать собственных друзей, писателей из МГБ типа Василия Ардаматского... Василий Ардаматский вряд ли, впрочем, заслуживал упоминания, если бы позднее не стал, наряду со Львом Никулиным, "ведущим антиписателем"; такие литераторы с вывернутой наизнанку моралью, восхваляющие ложь, вероломство, убийства, если они, конечно, "во славу революции", заслуживают особого рассмотрения, и к ним мы вернемся. Но тут произошло неожиданное. Массовый читатель не умел "перестраиваться" столь стремительно; он помнил тональность вчерашних газетных разносов и недоумевал. Он не был прожженным циником, массовый читатель, и требовал объяснений... Литература - это "должное", а не "сущее" - напоминали "Литературке" чаще всего отставные полковники, или, в просторечии газетчиков, "чайники". "Литературка" взялась срочно переучивать читателя, заведенного ею самой в дебри бесчисленных фальшивых теорий: бесконфликтности, примата положительного героя и пр.; это была светлая минута в жизни "Литературки" - люцидум интервалпум, как шутили старые писатели, окончившие еще классические гимназии, т.е. светлый промежуток у сумасшедшего... В этот светлый промежуток "Литературка" пыталась устыдить даже советских издателей, опубликовав нашумевшую в свое время статью "Найти собакина" (т.е. разбойника-рецензента, готового угробить любую нежеланную издательству рукопись). Люцидум интерваллум продолжался, как и полагается, считанное время. На даче Ермилова висела железная табличка с надписью: "Осторожно: злая собака". Кто-то приписал на ней гвоздем: "и беспринципная". Пришлось табличку срочно отрывать. Но на том перестройка и кончилась. Сталинские методы фальсификации общественной мысли, вошедшие в плоть и кровь, снова высыпали наружу, как сыпь при скарлатине. В те дни обсуждался, скажем, чудовищно плохой роман Федора Панферова "Волга-матушка река". "Литературная газета" опубликовала обзор писем читателей. Было процитировано 13 положительных отзывов и чуть поменьше отрицательных. Словом, книга как книга. Никакого скандала! Каков же был конфуз, когда выяснилось, что редакция получила более тысячи негодующих писем и только... 13, одобряющих роман. Негодование читателей скрыли, а 13 положительных увидели свет как "мнение народа". Но все скрыть было уже невозможно. Люди стали во весь голос критиковать антилитературу и, прежде всего, Бабаевского с его "Кавалером Золотой Звезды"27. Фальшь таких книг стала вопиющей после сентябрьского пленума ЦК партии 1953 года, когда выяснилось, что коров ныне в СССР меньше, чем при Николае II. Подобные открытия - позднее все более редкие - привели не только к краху "деревенской" антилитературы, трубившей о полном изобилии в годину голода, но и к трагедии таких даровитых писателей, как Сергей Антонов. Его бесспорно талантливые рассказы о деревне, частушечно-фольклорной, напоенной запахами трав, написаны скорее глазами дачника, отпускника. Они не претендовали на обобщения. Но все равно талантливый писатель не мог простить себе того, что в годы разора и голода он отделывался "частушечными рассказами", и надолго замолчал... Напротив, подняли голос писатели-националы. Крупный дагестанский поэт Расул Гамзатов серьезно заинтересовался трагедией Шамиля, преданного Россией, требовал поставить ему памятник; а позднее, на съезде писателей, выступил с поздравлением, от которого, помню, председательствовавший Сергей Михалков вскочил, точно на гвоздь сел. - Я па-аздравляю, - гулко, в съездовские микрофоны, нарочито замедленно начал Расул Гамзатов. - Па-аздравляю русских писателей - первых среди равных - от имени дагестанского народа - предпоследнего среди равных... Эммануил Казакевич, побывавший в Венгрии, привез оттуда анекдот, также свидетельствующий о том, что советское великодержавие для многих народов кость в горле. Он неизменно добавлял, что услышал его в Будапештском райкоме партии. "Заключен-де пакт между СССР и Венгрией, - шутили секретари Будапештского горкома, - о свободе плавания по Дунаю. Русским вдоль реки, а венграм - поперек..." Увы! Политические анекдоты безвременья, затопившие Россию, так анекдотами и остались: словотворчеством в те времена оторопи и прозрения временно не интересовалась даже припугнутая госбезопасность. Сразу после смерти Сталина - почти на другой день - усилилось шуршание листов самиздата. То, что лежало в тайниках, уцелело после чисток 37-го года, стало множиться и расползаться по стране. Любопытно, что же стало самиздатом после марта 1953 года, кроме стихов Гумилева и Цветаевой, имевших распространение лишь в университетском кругу? Каков был новый самиздат? Как это ни парадоксально, новым самиздатом стал... Ленин. Помнится, в тот год я впервые прочитал, на тетрадном листочке, копию письма Ленина к народному комиссару юстиции Д. Курскому, в котором призывалось "обосновать и узаконить" террор... "без фальши и прикрас...", "... формулировать надо как можно шире..." Оказалось, это письмо было напечатано и ранее, но - наше поколение все открывало заново. С несравненно большим вниманием мы читали и то, что от нас скрывали всегда. Помню, как поразили меня слова Веры Засулич, напечатанные 26 ноября 1917 года в России. Слова народоволки, стрелявшей в губернатора. Ее считали героиней даже в сталинское время. Она прочно вошла в историю русского освободительного движения. И вдруг выяснилось народная героиня сказала вот что: "Защищать свободу печатного слова от Ленина с компанией можно только делом. Ни урезонивать их, ни запугать невозможно... Нас, социалистов, Ленин пытается запугать тем, что борьба с его владычеством является борьбой "в рядах буржуазии" - против рабочих, солдат и прочих масс. Но это такая же ложь, как и все остальное... Борьба идет... не против масс, а против лжи, которой их опутывают... Неустанной борьбой русские люди докажут - самим себе докажут, а это очень важно, что кроме деспотов и рабов в России есть граждане..." ("Протест русских писателей", 26/Х1 1917 года). Подобные открытия ошеломляли нас. Выбравшись по скользким заплесневелым стенкам из бездуховного колодца сталинщины, мы открывали горизонты, о существовании которых и не ведали... Что же делать? Как быстрее, серьезней осмыслить происходящее, если все документы, по-прежнему заперты в "спецхране" Ленинской библиотеки, заперты, как и в сталинское время? Естественно, мы потянулись к Достоевскому, Кафке, Пастернаку. "Бесы" Достоевского или история провокатора Азефа читались и перечитывались: книги эти перестали быть историей... Нас, тогда молодых писателей, отбрасывали от редакций, хотя кое-что неожиданно прорывалось, о чем скажу позднее. Эта необычайная активность молодых объяснялась главным образом тем, что мы знали, твердо знали: ни Фадеев, ни Симонов, ни Сурков, ни Катаев не оградят от разбоя. Мы трепетно ждали, много лет ждали голоса уважаемых нами тогда маститых "советских классиков", ставших чем-то вроде икон советской литературы. Торопливо раскрывали газеты: кто бы мог - в тот год потрясений - помешать, скажем, Л. Леонову, Ф. Гладкову, К. Федину, К. Паустовскому, если бы они объединились против литературной нечисти? Против каторжной советской цензуры. Однако неоклассики молчали. Разнесся, правда, слух о дерзости писателя Степана Злобина. Степан Злобин вернулся из гитлеровского плена, где был руководителем восстания в одном из лагерей уничтожения. Злобин заслуживает особого разговора, особого места в истории современной литературы. Приведу только один эпизод из его жизни... Степана Злобина, как писателя-историка, пригласили в Политиздат. На заседание. Сюда прибыли и испытанные ортодоксы из института Маркса-Энгельса-Ленина, которые вычеркивали из издательского плана (а обсуждался план будущих лет) книги об участниках революции, погубленных Сталиным. Одного революционера вычеркнули как уклониста, двух - как частичных троцкистов. Список редел. И вот поднял руку Степан Злобин, спросил главного ревнителя чистоты: "Скажите, пожалуйста, кто был главным троцкистом?" Тот смешался: "То есть кто главный троцкист? Троцкий, конечно". "Ничего подобного, сказал Степан Злобин. - Главным троцкистом был Сталин". Ревнитель партийной чистоты покачнулся, свалился бы со стула, если б его не поддержали. Такого Россия не слыхивала уже три поколения. Но то было частное мнение. Не увидевшее, конечно, публикации... Кто начнет в печати? Кто сумеет прорвать бетонные надолбы цензуры? Несколько поколений ждало смельчака в литературе, который первым бросит камень в гнилое болото. Вызовет дискуссию, ругань, серьезное переосмысление жизни! Пусть только начнет!.. Первым начал Илья Эренбург. Осенью 1953 года в журнале "Знамя" появилась его статья с невинным названием "О работе писателя"28. Этот журнал зачитывался до дыр, как и все еретическое, хотя бы близкое к правде. "Каждое общество знает эпоху своего художественного расцвета, - писал Эренбург. - Такие периоды называются полуднем. Советское общество переживает сейчас раннее утро". Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Тридцать лет печать твердила изо дня в день: "Под солнцем сталинской эпохи", "на солнечной стороне мира". Целые поколения были воспитаны на этих словесных штампах и поверили, что живут под добрым солнцем, по крайней мере, сталинской конституции. И вдруг оказывается, утро забрезжило только сейчас. Значит, что ж, сталинская эпоха была мраком?!. Далее: "Есть область, в которой писатель обязан разбираться лучше своих сограждан и современников: это внутренний мир человека". Лучше всех все знало и во всем разбиралось ЦК КПСС, оно породило все постановления ЦК об искусстве, и - вдруг?! "Место писателя не в обозе, он похож скорее на разведчика, чем на штабного писаря. Он не переписывает, не излагает, он открывает..." Это был бунт! Бунт против невежественного цензурного контроля! "Писатель не может выправлять жизнь своих героев, - категорически заявлял Эренбург, - как корректор выправляет гранки книги". Прошло меньше года, и появилась "Оттепель", повесть 54-го года29. Она была, по сути, продолжением той же еретической статьи. Главный отрицательный герой ее - директор завода Журавлев, бюрократ, нечто вроде Листопада из "Кружилихи" Веры Пановой. Новый Листопад призывает: "Поменьше смотреть на теневые стороны, тогда и сторон будет меньше". Не дает грузовика роженице: "Машины не для этого". Есть в книге и художник Пухов, циник, растерявший талант. (Тема эта давно описана Гоголем в его "Портрете" - трагедия художника, угождавшего вкусу заказчика.) Есть и героиня Лена, ушедшая от отрицательного Журавлева к серому положительному Коротееву - все это в литературе было. Ничего нового Эренбург не открыл. Повесть эта, на мой взгляд, одна из самых слабых у Эренбурга. Даже стиль Эренбурга, рубленый, основанный на контрастах, так уместный в его "огнепальной" публицистике, в "Оттепели" - вял, бесцветен... Но поставим вопрос прямо: если герои "Оттепели" не новы, если сюжет задан и элементарен, почему же книга, художественно слабая, стала знамением времени? Явлением переходных лет? Почему на нее обрушились, как на главную опасность? В конце книги завихрилась буря, сбросившая с пьедестала Журавлева, и наступила оттепель... Это слово Илья Эренбург, как известно, вынес в заголовок, ставший символом... "Оттепель", - повторяла Россия, когда все мракобесы, от Молотова до Шолохова, утверждали, что ничего не случилось и все было прекрасно, кроме отдельных недостатков. Илья Эренбург дал мыслящей России точное и образное определение времени: оттепель... Конечно, на него снова набросились все - от Шолохова до Симонова... Эренбург ответил на это предисловием к книге Бабеля, которое срочно изъяли, а затем своим последним и, на мой взгляд, главным трудом - "Люди, годы, жизнь", целые главы которого немедля изымались цензурой и уходили в самиздат... Вклад Эренбурга в процесс духовного пробуждения послесталинской России трудно переоценить. Однако самый сильный удар по сталинщине нанес не он. Не он поднял на ноги всю молодежь, посеяв панику в ЦК. Героем 1953 года стал совсем другой писатель, бывший иркутский следователь, выступивший против произвола. Он сделал это столь талантливо и ярко, что об Эренбурге, авторе крамольной статьи, почти забыли. 2. ПОДВИГ ВЛАДИМИРА ПОМЕРАНЦЕВА Этот прорыв совершил маленький тихоголосый человек, болезненно скромный, неторопливый, ходивший даже в лютые морозы в легкой шерстяной куртке. "Я иркутянин, - говорил он с застенчивой улыбкой. - Привык морозу не поддаваться". Имя этого человека - Владимир Померанцев. Подвиг, им совершенный, назывался прозаично: " Об искренности в литературе", очерк. Опубликован этот очерк был в 12-м номере журнала "Новый мир" за 1953 год30. Спустя два месяца после пристрелочной статьи Ильи Эренбурга в десятом номере "Знамени". Едва декабрьский номер появился в продаже, как о Владимире Померанцеве заговорила вся думающая Россия. Но вначале расскажу о той стороне его жизни, о которой мало кто знал и которая была не менее героична, чем его статья, изобличившая ложь эпохи... Некогда Владимир Померанцев изучал юриспруденцию, в молодости работал следователем в сибирской глуши, а затем ушел в журналистику, так как сажать невинных было невмоготу. Многие его однокурсники стали за эти годы прокурорами и судьями, и, изредка общаясь с ними, товарищами детства, Владимир Померанцев непрерывно освобождал невиновных. Он сам, на свои средства, выезжал в дальние города, разговаривал с запуганными свидетелями, и - выяснял истину. Когда я впервые пришел к нему домой, на тихую улочку, неподалеку от станции метро "Сталинская", у него сидели двое стриженых парней в тюремных ватниках. Они приехали к нему прямо из лагеря. Парни были музыкантами, получили в свое время по двенадцать лет лагерей. В одном из городов они, устав после концерта, не пожелали играть на свадьбе председателя горсовета. Гонец от властей настаивал, и один из музыкантов сказал: - Парень, мы играем только на похоронах. Вот если бы ваш председатель предстал перед Господом!.. За музыкантами приехали утром. Нет, им не "шили" политику: времена были не те. Им приписали... групповое изнасилование, совершенное в те дни в районе; да еще добавили, для крепости, по разным "звонковым" статьям, как говорят юристы; приговоренные по этим статьям досрочно не освобождаются, сидят "от звонка до звонка". Померанцев отыскал все документы, говорящие о мести городских властей, и добился смещения прокурора, придумавшего "дело" об изнасиловании. Однако борьба за освобождение музыкантов продолжалась пять лет. Один из музыкантов, скрипач, отморозил в лагере пальцы, и их ампутировали; другой ослеп. Их "комиссовали" как инвалидов. Третий, не выдержав мучений, повесился в лагерном бараке. И только двое вышли через пять лет за ворота лагеря. И прежде всего приехали к Владимиру Михайловичу Померанцеву, своему освободителю. Кого только не освобождал Владимир Померанцев за свою подвижническую жизнь: токарей, деревенских мальчишек, начальников геологических партий, председателей колхозов. Гости на его день рождения прилетали, случалось, за 10 тысяч километров, из Петропавловска-на-Камчатке или Магадана, порой только на один день. Подняв рюмки за здоровье именинника, утирали ладонями повлажневшие глаза. ... В декабре 53-го года Владимир Померанцев как в набат ударил. Передо мной его очерк-исследование "Об искренности в литературе", который ныне так хотели бы вырубить из истории литературы лжецы и фальсификаторы. "Неискренность, - писал Владимир Померанцев, - это не обязательно ложь. Неискренность - это и деланность вещи... История искусства и азы психологии вопиют против деланных романов и пьес". В ЦК сразу поняли, что он имеет в виду социалистический реализм, который весь - от схемы, от заданности, "деланности", как выразился Померанцев. Он прослеживает главные приемы лакировки в советской литературе. а) Самый грубый, пишет он, - измышление сплошного благополучия (Бабаевский, Сергей Антонов, фильмы Пырьева, вроде "Кубанских казаков"). б) Прием потоньше. Явной лжи нет. Заливные поросята и жареные гуси убираются из колхозной жизни. Но - цинично замалчивается дурное и скверное. с) Третий прием хитрее и подлее всех предыдущих. Он заключается в таком подборе сюжета, когда вся проблематика, вся глубина темы вообще остаются за бортом. "Искажение тут - в произвольном отборе". После очерка-исследования Владимира Померанцева и по следам его и родился в Москве полуанекдот-полупрозрение о том, что же такое, в конце концов, социалистический реализм... Жил некогда жестокий царь Навуходоносор, - рассказывалось обычно с шутливой интонацией это вовсе не шуточное. - Придворный художник изобразил хромого и одноглазого Навуходоносора стройным рыцарем с блещущими отвагой очами и... был казнен "за лакировку действительности". Призвали второго, который, естественно, знал о судьбе первого. Второй нарисовал грозного царя таким, каков он есть, т.е. колченогим и кривым, и... был казнен "за клевету на действительность". Вызвали третьего. Тот написал страшного царя в профиль. Царь стоял на одном колене и, прикрыв глаз, нацелился из лука. Ничего не было искажено. У царя был зажмурен, разумеется кривой глаз. Подогнута укороченная нога. Царь был прекрасен в своем охотничьем порыве. Лжи не было. Как и правды. Сей запуганный до смерти, издрожавшийся за свою шкуру художник, который придумал, на краю могилы, спасительный ракурс, - завершал обычно рассказчик, - и был родоначальником социалистического реализма... Этот как бы анекдот облетел Москву, а затем всю страну. О нем говорили в университетах, в Союзе писателей, в бесчисленных секретных НИИ и КБ, где собрана "техническая элита", фыркали в кулак, узнав о нем, на высоких совещаниях. Острая и талантливая статья, высказавшая давно наболевшее, начала, как видим менять нравственный климат... "Писатели не только могут, а обязаны отбросить все приемы, приемчики, способы обхода противоречивых и трудных вопросов..." Настоящий писатель никогда не станет "заглушать проблематику...", - писал В. Померанцев. А проблематика сложна и противоречива, и Померанцев рассказывает о случае из своей юридической практики, когда его послали в дальний колхоз, в Заозерье, куда начальство не добиралось. Им руководила бой-баба, вдова. Она подняла колхоз, спасла людей от голода, но... добивалась этого не всегда юридически безупречными способами. Скажем, гнала самогон, которым и расплачивалась и с плотниками, и с рыбаками, обогащавшими колхоз. Правда оказалась не так проста. Куда сложнее должностного взгляда прокурора или директора банка. Прокурор между тем требовал немедля завести на бабу-председателя "дело". И посадить в тюрьму ее, спасшую от гибели десятки ребятишек... Владимир Померанцев бросил тогда работу в прокуратуре. "Искренность... должна быть мужественной, - требовал он в работе, напечатанной в "Новом мире". - Не писать, пока не накалился; не думать о прокурорах..." Вот на что посягнул бывший следователь прокуратуры. Не думать о прокурорах! Не жалует он, разумеется, и "благополучно-номенклатурных писателей". "Когда в нас, читателях, возникает тоска и горечь, когда с нами происходят перемены судьбы, бить нас, беззащитных, пустыми, бессочными фразами - это жестокость бесталанных людей". Особый счет у Померанцева к критикам. "От критика исходят, - негодует он, - не звуки, а отзвуки". "Плохо, когда критик ничего не подсказывает, а сам ожидает подсказок". "Мы знаем имена многих писателей, знаем их книги, но вовсе не знаем, чем обязана им литература, что они дали ей..." Разве в нашей лирике нет такого "неразумного, как не объясненного еще рассудком разумного", что, по утверждению Гете, является признаком настоящей поэзии? Но никто ничего этого не проследил. Поэтов у нас разделяют лишь запятые. "Наши критики, - возмущенно продолжает далее Померанцев, - боятся вписывать современных советских писателей в литературу... Боятся зачеркивать тех, кто вознесен ввысь на бумажном планере и держится ветром или веревочкой". Это уж недвусмысленный намек на конкретные имена. Не так грудно себе представить, в какой истерике забился, к примеру, "борец за мир" Корнейчук. И его подголоски... Каждым абзацем, каждой строкой Владимир Померанцев бьет, что называется, не в бровь, а в глаз. "А что такое перестраховка? - вопрошает он. - Это, по меньшей мере, десять пороков. Тут эгоизм, трусость, слепой практицизм, безыдейность и прочее, включая подлость". А трусам-редакторам подают руку, зовут в гости. Их надо бойкотировать, изгонять из среды честных людей. И писать о подлинных страстях и страданиях. "Обогащение тематики кажется мне самой надобной из надобностей литературы" ("Новый мир" ? 12, 1953 г.). Как видим, литература отмобилизовалась сразу же после смерти Сталина. Буквально в тот же год! Хотя о предстоящем развенчании Сталина еще и мысли не было, напротив, ермиловы пытались продолжать величание "сталинской эпохи", подлинная литература пошла на прорыв, как герои-пехотинцы, бросаясь грудью на ДОТы. Легко понять, такого удара по сталинщине Владимиру Померанцеву не забыли до конца дней его. Десятки прекрасных рассказов так и остались похороненными в его столе. Это было подлинным преступлением против литературы: Владимир Михайлович писал талантливо и мудро. Кто мог забыть, скажем, его рассказ "Караси", прослушав его хоть раз? Хотя пересказ всегда ослабляет силу воздействия талантливого произведения, я все же коснусь его, придушенного цензурой... Одному из ответственных работников рыбной промышленности позвонили и сказали, что в Кремле просят карасей. Полагая, что карасей возжелал отведать сам Сталин, ответственный чиновник немедля в панике вылетел в один из дальних рыбных колхозов, где, он точно знал, еще водились караси. А стояла лютая зима. Никто из колхозников, естественно, доставать карасей из-подо льда не соглашался. И вот секретарь райкома партии и этот ответственный чиновник, взломав лед и стоя по колено в ледяной воде, принялись выполнять государственную задачу: ловить карасей... Словом, привез этот ответственный чиновник несколько карасиков, однако тяжело заболел. А выяснилось вскоре, что караси-то были нужны не Сытину, а начальнику охраны генералу Власику. Мать к нему приехала из деревни, посетовала: вот, мол, рыба у вас. московских, все соленая, морская. А карасика и не попробуешь. Генерал решил ублажить свою матушку, позвонил в министерство по "вертушке", т. е. кремлевскому телефону... Страх и угодливость чиновничества, убеждает нас Владимир Померанцев своим рассказом, достигли такой степени, что человек по звонку из Кремля мог убить себя, родных, кого угодно, лишь бы не прогневить власть. А потом, когда этот человек стал инвалидом, его третирует жена, от него отвернулись дети; и он, сановный деятель, отдавший жизнь сталинской эпохе, спрашивает самого себя и окружающих: "Я инвалид. И пенсию получаю как инвалид. Есть инвалиды войны. Инвалиды труда. А я - инвалид чего?.." Подобные острые и ярчайшие рассказы Владимира Померанцева, ходившие по рукам, начисто изымались цензурой из его книг, книги выходили худосочными, обесцвеченными. Скорее, не книги, а клочья от книг. С трудом прорвались исковерканные цензурой повесть "Неумолимый нотариус"31, рассказ "Оборотень"32, о глухой сибирской деревне, где командировочных из города и вообще врагов, убивали, привязав их к спине оленя и отпустив испуганного оленя в таежные заросли, где тот пытался сбросить с себя орущую окровавленную ношу, обдирая ее о деревья... Свои главные выстраданные рассказы Владимир Померанцев попытался издать в сборнике "Дом сюжетов"... Он умер в тот день, когда набор этой долгожданной книги был рассыпан. Убила его Валентина Карпова, главный редактор издательства "Советский писатель". Услышав, что редактор соседнего издательства получил нагоняй в ЦК за выпуск одной из книг, она остановила все наборные и печатные машины своей типографии в Туле, где уже печатался, среди других, "Дом сюжетов". Карпова объявила по телефону Владимиру Померанцеву, что будет читать его книгу заново. Измученный, больной Померанцев, у которого уже было до этого два инфаркта, понял, что означает неумолимо-суровый голос трусливой и сверхбдительной Карповой. Выронив телефонную трубку, он упал, захрипел. Его отвезли в больницу, где он и умер. Я, вместе со многими писателями, хоронил его. Не собирался выступать. Просто плакал: мы дружили всю жизнь. Но... слово было предоставлено официальным лицам. Бог мой, тем же самым, которые добивали его! Вещий Юз! "Не страшно умирать, - снова обожгли меня его слова, - страшно, что именно те, кто тебя травил, и будут разглагольствовать над твоим гробом". Владимир Померанцев тоже знал, предвидел это. Он строго-настрого наказал своей жене перед смертью, чтобы гроб его ни в коем случает не выставляли в Клубе писателей. Чтоб и духа нечистого рядом не было. Отыскали, проклятые. Примчались в крематорий с веночком на проволоке, только что не колючей... У карателей из издательства "Советский писатель" были скорбные лица глубоко потрясенных людей Нет, этого нельзя было вынести. Протолкавшись вперед, я попросил слова. Не от издательства, не от комиссии по литературному наследству. От друзей писателя. Меня пытались оттолкнуть; какая-то кожаная куртка начала оттирать широкой спиной, но... не очень-то просто скандалить у гроба на виду осиротелой семьи, под тихую скорбь Шопена. Я начал говорить, и меня не прервали, не посмели прервать. Я сказал, как убили Владимира Померанцева. По крайней мере, имя убийцы стало известно литературной Москве. "В млечном пути мучеников русской литературы, - сказал я над гробом друга, - зажглась ныне и звезда Владимира Померанцева". ... После блистательного прорыва Владимира Померанцева, названного столь прозаично - "Об искренности в литературе", сняли с поста главного редактора "Нового мира", правда, не в последний раз, Александра Твардовского. Главным назначили Константина Симонова, которого, в свою очередь, изгнали после публикации еретично-го романа Дудинцева "Не хлебом единым..." Ох, как кричал-надрывался в тот раз на всех пленумах Алексей Сурков: "Вместо понятия "партийность" Померанцев на первое место выдвигает "искренность"... (!) Этак объявят вдруг партийность и искренность синонимами - тогда зачем он. Сурков? Спишут на партийную пенсию... "Когда писателя приводят в "милицию нравственности" В. Померанцева, шумел Сурков, - и начинается допрос, а искренно ли ты писал, - это оскорбительно... для нашей литературы". Но мытарили-таскали по кабинетам, конечно, не "искреннейшего" Алексея Суркова, а Владимира Померанцева, который заявил в сердцах в кабинете властного Поликарпова, заведующего Отделом культуры ЦК КПСС: "Мы друг друга не поймем, товарищ Поликарпов. Вам свобода не нужна, а мне нужна..." ... Мужественному и талантливому Владимиру Померанцеву свобода была нужна. Очень нужна! Как воздух! Поэтому его и убили... 3. ВИСЕЛИЦА, УБРАННАЯ ЦВЕТАМИ... Подвиг Владимира Померанцева дал обильную жатву. Активизировались все, в ком еще была жива совесть. Появилась целая воинственно-критическая литература, новые имена, которые с благодарностью повторяла думающая Россия. Федор Абрамов, ставший одним из самых интересных прозаиков-печальников русской деревни. Марк Щеглов, наш однокурсник и общий любимец, болезненный, на костылях, юноша неистовой силы духа. Никто еще так умно и храбро не высмеивал живого мертвеца Леонида Леонова, который вывел в романе "Русский лес" негодяя Грацианского и, заранее испугавшись государственного разноса, попытался увести "корни" Грацианского к царской охранке и за границу. Не может-де вырастить таких негодяев советская действительность... Ах, как отхлестал его Марк Щеглов, самый талантливый критик последней четверти века, загубленный на корню. И Федор Абрамов, и Марк Щеглов - дети "Нового мира", зеленая поросль в вырубленном лесу неподкупной критики. А за ними потянулись маститые: поэтесса Ольга Берггольц, героиня блокадного Ленинграда, ударила душегубов статьей, названной без смягчений и уловок: "Против ликвидации лирики". Драматург-моряк Александр Крон высмеял недоразумения, которые перепуганная советская драматургия выдает за конфликты. И даже битый-перебитый поэт Илья Сельвинский и тот опубликовал в "Литературке" свой известный протест, в котором он сравнивал советских литераторов с оркестрантами: одни получают канифоль, и потому звуки от их инструментов разносятся далеко, а другие - нет, и потому их слышат только первые три ряда партера... Срочно убрали из секретарей Союза писателей-палачей 49-го года Грибачева и Софронова, провалились они,