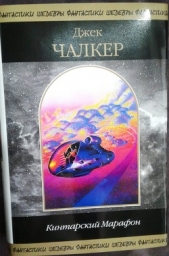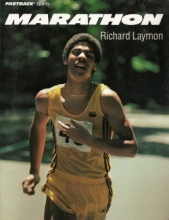Мордовский марафон
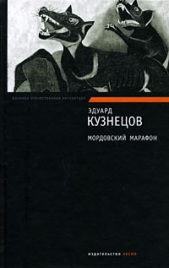
Мордовский марафон читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
СЪЕЖИТЬСЯ И ИСЧЕЗНУТЬ
Мышей у нас полным-полно. И крыс тоже, но к крысам я испытываю брезгливое отвращение, замешанное на безотчетном страхе, а мыши мне всегда нравились такие игрушечные, юркие, веселые. Вот только гадят они где ни попадя, ну, да разве это такая уж беда? Собери ты хоть тысячу мышей, они все равно не сумеют нагадить столько, сколько навалит иной симпатяга.
Ну, ладно, только завелась у меня под нарами здоровенная крыса - рыжая и толстая, как хлебная буханка. Сперва я хотел шмякнуть ее шваброй, но она так жалобно пропищала: "Пощади!", что у меня рука не поднялась. К тому же она оказалась калекой - вместо длинного голого хвоста, противно скользящего по полу, у нее, словно у кролика, торчал забавный обрубок, в жестких завитушках курчавой шерсти.
Стал я ее подкармливать, а заодно все выпытываю, где это она русскому языку научилась. Поначалу-то она все отмалчивалась - дескать, знать не знаю и ведать не ведаю, о чем это ты спрашиваешь, но потом призналась, что удрала из вольеры какого-то НИИ, где ей, несмотря на приличную кормежку, осточертели дрессировки и бесконечные операции. И в самом деле - под рыжей шерстью тут и там белели какие-то рубцы.
Лексикон ее был чрезвычайно скуден, но таблицу умножения она знала беззапиночней иного надзирателя. Хуже всего ей давались склонения, да и произношение хромало, то и дело сбиваясь на писк, - как-никак она была недоучкой, и это сказывалось на каждом шагу.
- А философии, - спрашиваю, - вас там учили?
- Очень, очень учили, - говорит.
- А ну, что же ты выучила?
- Все! - отвечает и, набрав полные легкие воздуха, выпаливает одним духом: - Наша родная партия и народ! Слушаюсь! Выполним и перевыполним! Виноват! Исправлюсь! Ур-ра!
Я честно делил с ней свой паек, и она росла как на дрожжах, доставляя мне массу хлопот, но и развлечений тоже. Первым делом я приучил ее пользоваться парашей и, нацепив очки, с серьезным видом разглядывать газету.
Сперва я тревожился, как бы ее не заметили надзиратели - тогда мне не миновать карцера, - но потом решил, что буду от всего отпираться: дескать, понятия не имею, как это животное оказалось здесь. Лишь бы она сама не проболталась.
А крыса-то моя не только достигла полутора метров, насобачилась ковылять на задних лапах, носить сапоги и брюки, но и начала облезать - кожа у нее какая-то мертвенно-белая с крупными порами. Пришлось раздобыть для нее арестантскую куртку и бушлат, чтобы не мерзла по ночам, а то она, озябнув, устраивалась у меня под одеялом - спросонья то так и вздрогнешь, случалось.
Но беспокоило меня другое: чем больше она становилась, тем делалась бесцеремоннее. Иногда, расправившись со своей порцией, она злобно посверкивала на меня черными с бесовски-красноватым отливом глазами - я пугался и отламывал ей корку от своего куска.
Как-то мне случилось заболеть. Я целых полмесяца не ходил на работу и, начисто потеряв аппетит, всю еду отдавал крысе. Это была непоправимая ошибка она быстро привыкла к целой порции и вскоре оскалом желтоватых клыков дала мне понять, что я могу рассчитывать лишь на хлебные крошки.
Я все сильнее ссыхался и съеживался и наконец перебрался под нары, так как крыса привыкла спать на моем матраце, где ее однажды застал фельдшер, впервые за две недели заглянувший в камеру.
- Ну и морда у тебя стала, - равнодушно проворчал он крысе, полагая, что это я. - Ну-ка, высуни язык. В норме... Завтра на работу!
Так она включилась в трудовой процесс. Судя по тому, что вскоре ей стали давать дополнительное питание, она перевыполняла норму, преуспевала на политзанятиях и была образцом послушания. Я был поражен, но не только ни о чем ее не спрашивал, но и старался не попадаться ей на глаза, пробавляясь крошками, остававшимися после нее под столом.
Однажды она, встав на четвереньки, заглянула под нары и сказала, грозно шевеля усами:
- Ходи сюда. Раскаянье писать! Вина признал, прошу простить, всегда служить родная партия и великий народ! Ну! Ты писать - я кормить! Ну!
И она швырнула мне большую корку хлеба, едва не сбив меня с ног. Я шарахнулся в угол и крикнул оттуда:
- Завтра напишу. - Сердце мое колотилось от страха и отвращения.
Ночью, дождавшись, когда крыса захрапела, я, вооружившись гвоздем, кое-как открыл тумбочку и влез в нее. Первым делом я обглодал горбушку хлеба, которую крыса оставила себе на утро, а потом разыскал английскую булавку и из трех когда-то принадлежавших мне носовых платков выбрал тот, что поновей. Сложив его вчетверо, я застегнул его булавкой на левом плече - на манер римской тоги, потом, кое-как втиснув огромный ломоть хлеба в спичечный коробок (мой ранец), спрыгнул на пол и со всех ног бросился к мышиной щели в углу.
Я полз все вниз, вниз и вниз, с непривычки обдирая в кровь колени и локти, но вскоре глаза привыкли к темноте, а руки и ноги приобрели необходимое проворство и ловкость.
Наконец я наткнулся на мышиную деревню и, соорудив себе шалаш на окраине ее, поселился там. Мыши сначала дичились меня, но потом, убедившись в моем миролюбии и скромности, приняли меня в свой круг.
Наука вольной жизни нелегко давалась мне да и языковой барьер не вдруг удалось преодолеть.
Поскольку настоящей мышиной сноровки я так и не достиг (с возрастом адаптационный механизм утрачивает гибкость), я подрабатывал лекциями о людском коварстве и учил мышей избегать ловушек с отравленной пищей. Мышиная жизнь, скажу я, непроста. Есть в ней свои трагедии, свои беды, много пота и всяких забот, но всякий трудовой день завершается праздником. Что за бесшабашная беготня, возня и пронзительный писк поднимаются! Какие стремительные хороводы, какой дух веселья и доброжелательности царит среди мышиного народа! А главное, тут решительно не знают, что такое тюрьма, и, хотя ни одно вече не обходится без жарких схваток, никому и в голову не приходит заковывать в кандалы тех, кто думает наособицу.
Я, конечно, женился на прелестнейшей мышке (второй дочери деревенского учителя музыки), и теперь в нашем гнезде попискивает целый выводок мышат с розовыми мордашками.
Одно меня смущает: больно уж у моей женушки ноги волосатые, а мне никогда не нравились женщины с волосатыми ногами. Надо будет где-нибудь раздобыть безопаску и научить ее брить ноги. Но только чтобы каждый день, а то от щетины щекотно.
Когда я в очередной раз мучаюсь над настройкой себя на что-то внелагерное, я неизбежно вспоминаю Валька Соколова (где-то он сейчас горбатит, бедолага?), которого когда-то по неопытности сердечной упрекал в узости тематики: что у тебя, мол, все лагерь да лагерь!.. А что у него могло еще быть! Он к тому времени уже 18 лет отсидел. Значит, никуда от него, проклятого, не деться, пока эта тема не будет исчерпана - в жизни и в слове. Вместе с тем я не хочу на ней паразитировать, сказать о себе: "я заключенный - тем и интересен" обидно.
Тут у меня было сложилось несколько теплых страниц о Вальке, быть может, эмбрион повестушки, но беда в том, что нет у меня его стихов, а он-таки поэт по преимуществу, и писать о нем, не имея под рукой его стихов, никак нельзя. Правда, несколько штук я раскопал (кое у кого они тут хранились более десяти лет), но это относительно ранние и далеко не лучшие его вещи. Они у меня в двух экземплярах, один я приложу к этому письму: если мой заберут, то, может, твой сохранится. Это стихи года 1958-1960, так что, если они и попадут в руки тех, для кого они не писаны, Вальку это уже не страшно - дело-то ведь давнее.
Легко заметить, что тут много безвкусицы, от которой он до конца так и не избавился... да и как, где он мог пройти хорошую вкусовую школу? Нет-нет да и мелькнет штамп, есть и "красивости" - отголосок уголовной эстетики... Он знал об узости своей базы, но уже не пытался расширить ее, маскируя свою ограниченность "принципиальными" соображениями в духе интуитивизма, философии жизни Бергсона, Фильтена, Зиммеля... Он ссылался на них, имея о них, конечно, самое смутное представление (хотя и ухватив некую суть) и не желая признать, что они-то могли позволить себе роскошь пренебрежения классическим наследием и логикой рационализма именно потому, что вполне владели ими.